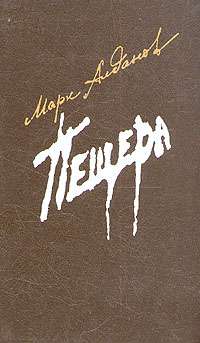
 Увеличить Увеличить |
XVII
Со скамьи, за окном, на противоположной стороне улицы были
видны на желтой вывеске черные буквы: Раре… Над писчебумажным магазином, в
глубине комнаты, у окна стояла вполоборота женщина, — кажется, молодая и
красивая. С улицы доносились голоса. Везде были отворены окна, люди весело
переговаривались между собой, здесь, по-видимому, все знали друг друга. Только
в сумрачной зале ломбарда не было этой ласковой провинциальной уютности. Здесь
молчали или говорили вполголоса. Тихо входили и выходили люди, в большинстве
бедно одетые, печальные. Рядом с Витей дама, одетая получше, старательно
показывала, что очутилась здесь совершенно случайно и что она недовольна
обществом. Все ждали очереди с французским уважением к правилам, с терпением
бедных людей, — ждать нужно было долго. За перилами что-то подсчитывали и
писали служащие в серых балахонах. Однообразно-четко стучали машины. Витя
нервно поглядывал на боковое окно, выходившее в соседнюю комнату. Там валялись
тюки, пакеты, чехлы. У крашеной серой стены сидел оценщик, пожилой, бородатый
геморроидального вида человек. «Вот он и решит, ехать ли мне на войну с
большевиками!..» Женщина с ребенком на руке вполголоса объясняла соседке, как
она здесь очутилась: прежде они никогда не нуждались, но после войны… Соседка
вздыхала. «Да, люди стыдятся бедности, все, даже они, вековые, наследственные
бедняки…» — «Триста двадцать семь!» — каким-то странным, удалым голосом, со
странным напевом и выговором, прокричал молодой веселый служащий, появившийся в
боковом окне — «пятьдесят франков!». Пожилой господин, сидевший на отдаленной
скамейке с видом совершенной покорности судьбе, сорвался с места и побежал к
окну, оглядываясь по сторонам, точно он боялся встретить знакомых. «У него вид
женатого человека, попавшего в дом терпимости», — подумал Витя и
погрузился в воспоминания о вчерашнем вечере. «Как много ощущений за один день!
Там, в оперетке я не думал, что будет через несколько часов. — „Триста
Двадцать восемь! Пять франков!“ — снова пропел служащий. Витя вздрогнул и
взглянул на свой номер. „Сейчас все решится. Как странно! Для того, чтобы
отдать жизнь за Россию, я почему-то должен пройти через все эти „engagement“,
„dégagement“, «renouvellement“[235],
и если что-либо здесь выйдет не так, вся моя жизнь сложится иначе… А если б она
мне тогда не сделала без причины подарка, то я теперь был бы совершенно
беспомощен, в ее полной власти. Она тогда, в Довилле, сказала: «Прими это как
подарок, на память от папы, он так тебя любил…» И это мне было больно: я рад был
бы получить подарок не от Семена Исидоровича, а от нее. Я знаю, она думала, что
так будет деликатнее. Но это и показывает, что мы перестали понимать друг
друга. Да, она изменилась ко мне, я это чувствовал и в те дни, когда она была
весела. Даже тогда она задевала меня, иногда оскорбляла. На пляже она сказала,
что у меня смазливая рожица. Она знала, не могла не понимать, что это
оскорбительно… Она высмеивала мои манеры: «ты клоп, а стараешься говорить, как
вельможа из Английского клуба. Может быть, ты говоришь и „давеча“… Все это
мелочи, пусть! Но прежде таких мелочей не было. Отчего же это сделалось? Нет,
конечно, не из-за денег, не надо быть болезненно мнительным, я просто надоел
ей. У нее сухой ум и сухая душа… Я клевещу на нее, но я поступил правильно, что
порвал с ней, с ее домом, с ее деньгами…» — «Но почему же пять франков? —
с мольбой в голосе говорила женщина, — прошлый раз дали семь, ведь это
настоящий никель». — «La petite dame veut avoir sept francs»[236], — сказал веселый
служащий оценщику, показывая ему что-то в чехольчике. — «Хорошо,
семь», — ответил, вздохнув, оценщик. — «О, нищета, горе, везде
горе! — думал Витя, едва сдерживая слезы. — Зачем все это? Почему все
это так?» — «Триста двадцать девять! Тысяча франков!..» — Витя сорвался с
места. Соседи глядели ему вслед с уважением и с завистью. «Oui, parfaitement»[237], — поспешно, как
можно вежливее, сказал Витя. Служащий посмотрел на него и, по-видимому, не
согласился с «parfaitement»».
— Сколько вам лет?
— Двадцать два, — быстро солгал Витя, почувствовав
недоброе.
— Покажите, пожалуйста, ваши бумаги.
— У меня нет с собой бумаг…
— Ссуда не может быть дана.
— Но почему же?
— Несовершеннолетние должны представлять разрешение
родителей или опекунов… Триста тридцать! — прокричал нараспев служащий,
совершенно не так, как только что говорил.
«Вот и здесь „смазливая рожица“, все надо мной
потешаются», — думал Витя, не предвидевший этого удара. Его душила злоба.
Минут пять или шесть бежал он по улице, сам не зная куда, и только отойдя
довольно далеко от ломбарда, вспомнил, что ведь еще не все потеряно. «Не
удалось заложить, можно продать… Скупщики о возрасте спрашивать не будут…» По
дороге в ломбард, он полчаса тому назад видел несколько лавок с вывеской:
«Achat de bijoux».[238] Витя
повернул назад. «Нельзя будет ей возвратить? Что ж, если говорить правду, какие
шансы у меня вернуться в Париж и выкупить запонки из ломбарда? Это самообман.
Наконец, в случае скорого возвращения, можно будет разыскать и ювелира…» На
улице, проходившей вдоль ломбарда, было несколько ювелирных лавок. Витя
заглянул в первую из них и прошел мимо: лицо хозяина показалось ему
неприветливым. В следующей лавке старый бородатый еврей в очках с выражением
напряженного, почти страдальческого любопытства на лице, полураскрыв рот, читал
газету. Почему-то вид этого ювелира, то, что он был старик и еврей, то, что он
с таким интересом читал газету, успокоило Витю. «Ну, этот за полицией во всяком
случае не пошлет… И в конце концов не вор же я, чего мне бояться?» Он быстро
оглянул себя в зеркале следующей витрины, поправил сбившуюся выемку мягкой
шляпы, вернулся и, приняв возможно более уверенный вид, вошел в магазин.
Приподняв шляпу, Витя спросил, не купят ли у него вот эту вещицу. Ювелир нехотя
оторвался от газеты, оглядел вошедшего и, по-видимому, не нашел ни в его
наружности, ни в предложении ничего подозрительного. У Вити чуть отлегло от
сердца. Старик долго рассматривал запонки простым глазом, затем достал лупу,
снова осмотрел и недовольно покачал головой, точно нашел в запонках большой
недостаток. Витя ждал с тревогой.
— Тысяча двести франков, — сказал ювелир, проделав
еще какие-то манипуляции.
Свет зажегся в душе у Вити. Он вспомнил однако, что надо
поторговаться.
— Как тысяча двести? — развязно переспросил
он. — За вещь заплачено больше трех тысяч франков.
Ювелир положил запонки назад в коробку.
— Тогда не надо.
— Я хотел бы тысячу пятьсот, — сказал Витя,
несколько осекшись. — Вы можете смело дать тысячу пятьсот. За вещь
заплачено больше трех тысяч.
— За вещь не заплачено больше трех тысяч, —
спокойно и уверенно ответил ювелир. — Заплачено, может быть, две тысячи
двести. И, вероятно, магазин что-то заработал? И ведь надо и мне тоже
что-нибудь заработать, правда?
— Все-таки дайте, пожалуйста, тысячу пятьсот, —
сказал Витя, сраженный логикой старика. «Верно догадывается, что я прямо из
ломбарда и что там мне предложили тысячу и не дали ничего…»
Ювелир опять внимательно осмотрел запонки, подбросил их на
руке и снова положил в коробочку.
— Тысяча триста, и ни сантима больше, — сказал он
твердо. — Больше вам никто не даст.
— Ну, хорошо, я согласен, — сказал Витя и
испугался, не покажется ли подозрительным его поспешное согласие. Ювелир
отсчитал деньги и вынул листок бумаги.
— Где вы живете?
«Если сказать правду, потом могут разыскать», — подумал
Витя. — Елисейские поля, двадцать восемь, — брякнул он и покраснел,
так неправдоподобен был этот адрес. Ювелир только пожал плечами: была ли ему
совершенно безразлична предписанная формальность, или он привык к тому, что
продавцы сообщают ложный адрес, или так наглядно свидетельствовала о честности
наружность Вити, но старик ничего не возразил. — Запишите… — Витя дрожащей
рукой написал: «28, Елисейские поля», но фамилию показал настоящую, так что и
цель не была достигнута: разыскать все-таки могли. Не глядя на ювелира, он
сунул деньги в карман, поблагодарил и вышел. На улице Витя невольно ускорил
шаги, точно опасаясь погони. «Как глупо! Ведь я не вор. Но все-таки главное
сделано, теперь я свободен!.. Слава Богу!..»
Поезд отходил только днем, деться было некуда, Витя бродил
по этому кварталу, — одному из десятка городов, в общей сложности
образующих Париж. Он думал и об отце, и о Григории Ивановиче, и о
Сонечке, — о том, как все они его встретят, когда он с кавалерийским
отрядом ворвется в Петербург. Думал и о Мусе, но без прежней злобы,
почти без боли. «Что, если все-таки неправда? И если я погибну оттого, что
Мишель соврал…»
Потом Витя вспомнил, что не записал адреса ювелира. Хотел
было вернуться, но раздумал: «Не все ли равно? Теперь-то навсегда кончено!..»
За поворотом улицы ему загородили дорогу люди, выстроившиеся у низкого,
похожего на сарай строения. Над ним висела надпись: «Soupe populaire»[239]. Из сарая вышел дряхлый,
очень плохо одетый старик. Опираясь на палку, заложив назад левую руку с
трясущимися пальцами, он медленно прошел мимо Вити. Витя долго провожал его
взглядом.
Он зашел в кофейню, сел на террасе, спросил кофе, съел
булочку. Решил не идти в ресторан: «куплю ветчины и хлеба, надо беречь каждый
грош…» Витя точно считал себя теперь ответственным за свои деньги перед армией,
в которую должен был поступить, перед той женщиной с ребенком, перед нищими
людьми, выстроившимися у сарая для получения бесплатной тарелки супа. Кофе было
крепкое. Витя почувствовал голод. Ветчину можно было съесть только в вагоне, а
до поезда оставалось еще много времени. Объявление на доске кофейни сообщало,
что choucroute[240] стоит
один франк. «Это можно истратить», — решил Витя. Он поел, выпил еще
кофе, — на дорогу. И оттого ли, что так прекрасно было летнее утро, или
из-за новой жизни, которая теперь открывалась перед ним наверное, — все
препятствия, кажется, были устранены, — совершенно в иной цвет окрасились
мысли и чувства Вити. «Да, борьба везде одна, — думал он, — кто
борется за правое дело в России, борется и за этих бедняков, за всех
несчастных, обиженных людей, за человечество, — не надо стыдиться жалкого
слова. А там, на юге, в добровольческой армии дело правое, и за него не жаль
отдать жизнь! Что такое мое личное горе, Муся, Клервилль, Серизье, какое
значение это имеет! Все это потонет в большом деле. В нем, конечно, и я найду
успокоение…» Солнце сияло ярко, заливая радостью все сердце Вити. — «Я не найду
, я уже нашел его! Я нашел не успокоение, а счастье!..»
|


