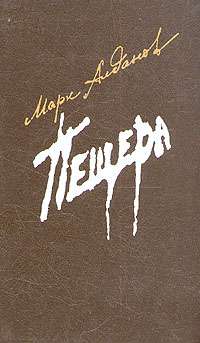
 Увеличить Увеличить |
XXIII
Для Муси устройство обеда еще было непривычным делом. Она и
чувствовала себя почти как перед экзаменом, хотя за обед отвечала гостиница, на
которую можно было положиться. Вернувшись из Курзала, Муся зашла в ресторан и
еще раз, не без волнения, все осмотрела, как экзаменующийся в последний раз
просматривает конспект за час до экзамена. Отведенный им на террасе лучший,
угловой стол был очень уютен. Вина выбрал Клервилль: рейнвейн, шамбертен и
шампанское; перед обедом еще должны были подать коктейль. «Не много ли?.. А
впрочем, они пьют, как извозчики. И отлично… Право, все будет очень мило,
особенно когда зажгут эту настольную лампу с красным абажуром…» Сообразуясь с
люстрами, Муся выбрала для себя за круглым столом самое выгодное место. «Справа
будет Браун, слева Серизье…» Она велела метрдотелю убрать цветы в высокой,
узкой, легко опрокидывающейся вазочке и положить на стол, прямо на скатерть,
несколько роз, — перед самым обедом и не очень много.
В парикмахерской гостиницы уже горели лампы, хотя на дворе
еще было совершенно светло. Вид этой небольшой, необыкновенно ярко освещенной
комнаты, мрамор и красное дерево столов с белыми тазами, блестящий никель
кранов, пульверизаторов, цилиндрических приборов, многочисленные зеркала, горы
белоснежного белья, красные, зеленые, розовые, желтые флаконы на полках и в
висячих стеклянных шкапчиках, стоявший в комнате легкий спиртной запах, —
все это доставляло беспричинную радость Мусе. Парикмахер, странно потрясая
щипцами, восторженно хвалил ее волосы. Одновременно с завивкой, миловидная
дама, со слегка обиженным видом, полировала ей ногти. Это сочетание двух
производившихся над ней работ еще усилило у Муси радостное впечатление
напряженной деятельности. Приятны были даже глупые комплименты
парикмахера, — так столичный артист на гастролях не без удовольствия
читает похвалы в провинциальной газете. — «Ah, Madame, des cheveux comme ça,
je peux bien dire qu’on n’en voit pas souvent de nos jours»[154], — говорил парикмахер с озабоченным
видом, явно означавшим тревогу за будущее дамских волос. Этот старательно
стилизованный под дурачка человек оказался художником своего дела, и Муся по
первым же его движениям оценила подлинный дар, — как папа Бенедикт XI
оценил гений Джотто по нарисованному им обыкновеннейшему кругу. Миловидная дама
находила преувеличенными похвалы парикмахера и подчеркнуто-неприятно молчала.
Она, по-видимому, не одобрила и бриллиантовых шпилек, которые парикмахер взял у
Муси с восторженным «Oh!..» и очень ловко вколол в шиньон… «Да, все хорошо,
чудесно, — думала Муся, — потом будет шампанское, Браун… Я скажу ему…
Нет, не надо придумывать наперед, буду говорить, что придет в голову, и выйдет
отлично…» — «Выйдет отлично», — подтверждало милое зеркало в белой раме. У
Муси были любимцы среди зеркал. — «Выйдет отлично», — подтверждала
своим треском машинка. Ток нагретого воздуха щекотал кожу. Запах жженой бумаги
и одеколона приятно смешивался с грушевым запахом лака для ногтей. Муся
радостно вспомнила о своем подарке отцу, которому эта машинка доставила такое
удовольствие. «Бедный папа», — подумала она привычными в последнее время
словами.
Потом у себя в номере Муся долго занималась туалетом. Надела
черную combinaison[155] под
черное тюлевое платье, и к нему темно-серые чулки, — такое соединение было
последней парижской новинкой; едва ли впрочем Браун или даже Серизье могли
оценить это или хотя бы заметить. «Да, все-таки вышла отличная поездка!..
Сегодня, после шампанского, я знаю, будет мило, я всегда это чувствую наперед…»
Ей хотелось играть на рояле, но рояля не было. Это для нее было большим
лишением — после Петербурга они все время жили по гостиницам. «Как только
устроимся, прежде всего купим Стейнвэй… И, право, надо будет заняться музыкой
серьезно…» Ей вспомнился концерт знаменитого пианиста в тот день, когда Вильсон
читал о Лиге Наций, — наглые, торопливые звуки, наскакивавшие на
божественную простую фразу той сонаты. — «Торопись, проходи,
некогда», — говорили эти звуки, которым не поддавалась божественная фраза.
«Теперь я совсем иначе буду ее играть», — подумала Муся, надевая
драгоценности перед зеркалом. Это зеркало было не такое милое, как то в
парикмахерской; но она и в нем была очень хороша. Вдруг на столе
неприятно-резко прозвучал телефонный звонок. Муся вздрогнула. «Что такое?..» Ей
сразу пришло в голову самое неприятное, что могло случиться. «Браун
отказывается от приглашения? Нет, это теперь было бы просто грубо!..» Муся поспешно
подошла к аппарату. Незнакомый мужской голос печально и твердо спрашивал
господина Клервилля. «Слава Богу, не то…»
— Господина Клервилля нет дома… Кто говорит?
Незнакомый человек помолчал несколько секунд и спросил, еще
печальней и настойчивей, госпожу Клервилль.
— Это я… Что такое? — произнесла, бледнея, Муся.
Мысль об отце вдруг ее поразила. «Нет, не может быть, ведь два часа тому назад
было совсем хорошо…» — Что? Кто говорит?
Говорил хозяин виллы «Альпийская Роза». Госпожу Клервилль
просят немедленно приехать… «Да, немедленно, сию минуту. По телефону неудобно
говорить… Да, к сожалению, господину Кременецкому худо…»
— …Я …Я сейчас, — сорвавшимся голосом сказала
Муся. Она повесила трубку, снова было схватилась за нее, но уже было поздно:
сообщение прервали. «Боже мой, что же это! — задыхаясь, подумала
она. — Нет, не может быть, ведь только два часа тому назад…» Муся
растерянно взглянула в зеркало. «Что ж это… Так бежать, в этом платье? Не
переодеваться же… А обед!.. Куда звонить? Его там не знают. Он сказал: худо…
Неужели?..» У нее вдруг рыданья подступили к горлу. Она опустилась на стул,
потом вскочила, побежала к двери, вернулась за манто и выбежала в коридор.
XXIV
Решено было устроить похороны без религиозных обрядов. Семен
Исидорович по документам значился лютеранином. Мусе однако показалось странным
приглашать пастора, — так представление о пасторе не связывалось в ее
памяти с отцом. Тамара Матвеевна лежала в кресле, то безжизненно как труп, то
истерически рыдая и колотясь головой о стол. Муся все же спросила ее, как
следует похоронить отца. Получить ответ было нелегко. Тамара Матвеевна долго не
понимала, чего от нее хотят, затем проговорила: «Сделай, как хочешь, Мусенька,
дорогая… Сделай, как нужно», — и зарыдала. Через некоторое время она вспомнила,
что однажды в Петербурге Семен Исидорович, после чьих-то похорон, выразил
удивление, отчего в России не разрешают сжигать тела, — ведь это чище и
красивее.
— Так он сказал, папа, папа, я помню… Это он в столовой
сказал, за столом, на его месте… На его месте… Я все помню… Я все отлично
помню… Откланяться… Он сказал: честь имею откланяться… — рыдая, говорила Тамара
Матвеевна.
— Тогда, по-моему, вопрос решен, — ответила Муся и
попросила мужа навести справки на кладбище.
На эту ночь Муся осталась в «Альпийской розе». Хозяин,
добрый и приветливый человек, тяжело вздыхая, сделал все, что мог, несмотря на
огорчения и неудобства, которые причинил ему русский гость. Жилец, снимавший
комнату рядом с Кременецкими, с полной готовностью и даже с видимым облегчением,
согласился уступить свой номер вдове умершего соседа и перебрался во второй
этаж. Нашлась комната и для Муси. Клервилль привез жене все нужное из
Национальной Гостиницы и довольно настойчиво говорил, что и сам останется в
«Альпийской розе». Но Муся решительно это отклонила.
Около полуночи Тамара Матвеевна задремала в кресле — ни за
что не хотела лечь в постель, — потом проснулась с ужасом и стыдом — как
могла заснуть! — и снова заснула. Муся перешла в свою комнату. На столе
лежал незапечатанный конверт, адресованный на ее имя. В нем оказалось
объявление на плотной глянцевитой бумаге, очень похожее на те, что раздаются в
агентствах по устройству путешествий. В объявлении подробно излагались, на
немецком языке, преимущества сожжения тел; перечислялись ученые, политические
деятели, титулованные лица, очень сочувствовавшие такому способу погребения;
указывалось, что в сожжении нет ничего противного религии и что сам Лютер
отзывался о нем одобрительно. Были и рисунки, со странными названиями: урна,
крематорий, колумбарий. Исходил листок от союза крематистов , — в
этом слове Мусе показалось что-то гадкое и страшное. Но в рисунках ничего
гадкого не было: нарядные чистенькие залы, напоминавшие не то помещение банка,
не то ботанический кабинет. «И слово какое-то ботаническое: колумбарий
», — подумала Муся, содрогаясь. На оборотной стороне листка были
напечатаны немецкие стихи. Муся, совершенно измученная, села в кресло, положила
листок, затем снова взяла его со стола. «Wenn ein Mensch, ein
faulend Aas, — Liegt unter Erd und Gras, — читала она машинально, — In und auf ihm Würmer, Käfer, Sagen Sie: „der müde
Schläfer…“[156] «Что
же это? Ведь это издевательство?» — сказала Муся и заплакала.
За эти ужасные пять часов она просто не имела времени
подумать об отце. Теперь у нее в памяти встал какой-то вечер в Петербурге,
осенний или зимний холодный вечер, уютная комната, ярко освещенная желтоватым
светом… Муся не представляла себе, какой это был вечер и какая комната, —
в их квартире как будто такой не было, — да она и не видела этой комнаты
ясно, — только теплый желтый свет, особенно уютный от холода и мрака на
дворе. В этой комнате ее отец делал что-то уверенное, радостное, доброе. Может
быть, это было в суде, — он говорил речь? нет, речи не говорил, —
может быть, он шутил с товарищами где-нибудь в буфете суда, или дома готовил с
помощниками дело? От этого неясного, непонятного воспоминания о чем-то никогда,
быть может, не происходившем у Муси вдруг рыдания подступили к горлу; ею
овладела такая тоска, какой она не испытывала даже в первые минуты, отчаянно
рыдая над мертвым телом отца.
«Да, да, что ж делать теперь? — утирая слезы, говорила
себе Муся. — Недостаточно любила, теперь поздно, теперь поздно… Только
соблюдала приличия: отвечала на письма, вот и сюда приехала… И этот подарок!..»
Мысль об ее подарке отцу, доставившем ему такую радость, была единственным
утешением, — хоть доктор и говорил, что смерть, collapsus cardiaque[157], последовала от усилия:
со слов растерянного приказчика выяснилось, что иностранный господин захотел
сам снести машинку в автомобиль, как он, приказчик, ни убеждал этого не делать.
«Да, он был так рад, так рад… Если б я знала!.. Как много еще можно было
сделать, чтобы скрасить его жизнь!..»
За открытым окном раздался томительно-сладкий свисток
уходящего вдаль локомотива. Муся вытерла слезы. «Что ж, жить все-таки надо…
Будут дети… Нет, нельзя откладывать, слишком страшно!.. Все-таки у меня еще
целая жизнь впереди. Мама? Что я сделаю с ней, несчастной? Это было очень
благородно, что Вивиан тотчас предложил поселить ее вместе с нами… Я и к нему
была несправедлива, теперь надо будет и с ним все поставить по-другому: чище,
лучше, добрее. Я люблю его, он свой… (свисток поезда повторился еще дальше,
слабее и таинственней). Да, надо жить… Что ж делать? Послезавтра похороны,
потом сейчас же, сейчас уехать…» Муся снова взяла со стола листок, точно там
могло быть объяснено и то, как уезжают после похорон. «Glaubt,
das schönste wär’ noch heut’ — Das Verbrennen alter Zeit; — Feuer lässt
zurücke keine — Totenköpf und Totenbeine…»[158] «Нет стыда у этих людей…»
Муся разделась и, вздрагивая, легла в постель. Она уже почти
год не спала одна. В несессере, привезенном ей Клервиллем из Национальной
Гостиницы, был и роман, который она читала в последние дни. «Может быть,
чуть-чуть бестактно, но заботливо, мило, — с нежностью подумала
Муся. — Нет, даже и не бестактно…» Она попробовала заглянуть в роман.
Сухой, насмешливый, литературно-искусный рассказ о женщине, бросившей светские
узы для свободной жизни, а затем свободную жизнь для чего-то еще, и под
конец вернувшейся к светским узам, не заинтересовал Мусю. В романе выводились
те самые весело-аморальные, цинично-мужественные, иронически настроенные,
элегантные люди, которые ей нравились; и тон был тот, что ей нравился: пора
бросить старые, глупые слова, — о них и вспоминать в наше время
стыдно, — нужно жить во всю полноту, ничего не пропуская, нужно испытать
все ощущенья, вот что главное… Но уж очень этот тон был теперь далек и
невозможен. В соседней комнате стоял гроб. Муся потушила лампу. «Как я могла
еще вчера с удовольствием это читать!» В окне противоположной комнаты погас
свет. У стены потемнел шкаф для платья, дешевенький, плохо закрывавшийся шкаф,
с полками, выстланными газетной бумагой. «Как он бедно жил, папа, в последние
месяцы!.. Они берегли каждую копейку. Я ведь не знала всего этого. Да папа и не
взял бы у меня денег… Но уход был за ним очень хороший. Вот и консилиум был… Не
помог консилиум… — „Всех их в мешок да в воду“, — вспомнила она.
И перед ней снова встала залитая желтоватым светом комната в
Петербурге, где прошла бодрая, шумная, радостная жизнь, теперь закончившаяся
так непонятно… Муся долго лежала в темноте, глядя в окно неподвижным блестящим
взглядом. Где-то медленно били часы. Начинало рассветать. «Да, я в последнее время
жила слишком быстро… Надо переключить жизнь на другую скорость, вот как в
автомобиле… И все теперь должно стать другое… Хочу чистой, доброй, хорошей
жизни», — думала Муся, сама удивляясь своим мыслям.
Утром Серизье прислал венок с милой и трогательной надписью, —
он совершенно не знал отца Муси. Хозяин «Альпийской розы» возложил на гроб
букет. Несколько цветков, конфузясь — имеет ли право? — принесла
горничная, прислуживавшая Кременецким. Люди проявляли много участия к горю
родных умершего. Меннер с женой просидел с ними несколько часов, все говорил о
Семене Исидоровиче, о себе, о смерти и замучил Мусю. Но Тамаре Матвеевне его
участие было приятно, — если что-либо вообще ей теперь приятно могло быть.
Зашел и украинский знакомый. Зашел — правда, очень ненадолго — Браун. Владелец
магазина, где была куплена пишущая машинка, вернул за нее деньги, узнав, что
она не нужна семье умершего покупателя, — вычел только восемь франков за
починку. А распорядитель из похоронного бюро, приходивший к Клервиллю для переговоров,
очень правдоподобно прослезился при виде Тамары Матвеевны, — Клервилль
усмотрел в этом фамильярность и лицемерие, однако он ошибался: распорядитель
плакал на всех похоронах — правда, по привычке, но искренно.
На следующий день пришло несколько телеграмм, Муся невольно
останавливалась мыслью на том, кто как узнал, кто как мог принять
известие, — особенно Браун и Серизье («Им сказали в гостинице…»).
Телеграммы были совершенно одинаковые, свидетельствуя о нищете слова. Но и в их
казенном красноречии было некоторое утешение, — читала все приходившее
даже Тамара Матвеевна, и мертвые глаза ее на мгновение как будто становились
менее мертвы.
|


