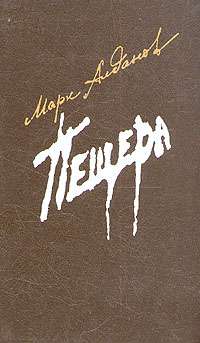
 Увеличить Увеличить |
XXVI
Позднее, после самоубийства Брауна, когда почти все знавшие
его люди говорили, что он, верно, был человек сумасшедший, Муся, в дурные
минуты, со стыдом и ужасом думала, что в тот вечер он действовал по
определенному плану, как мог бы действовать самый пошлый покоритель сердец:
«Напоил меня, а потом, сыграв на пессимизме, заговаривал , как знахарь
заговаривает больного, как факир заговаривает змею…» Этим объясняла Муся и то,
что, вопреки своему обыкновению, он говорил с ней о предметах серьезных, ей
мало доступных и не слишком ее интересовавших. Замыслом покорителя сердец
объясняла она и непристойно-циничный тон некоторых его замечаний.
Однако, в минуты лучшие, когда Муся вспоминала о Брауне
иначе, ей казалось, что он в самом деле был увлечен, чуть только не влюблен в
нее в тот вечер: «Перед смертью хотел взять у жизни и это. А говорил со
мной, — да, как Мольер читал комедии своей кухарке, никого другого не
было… Хотел хоть перед кем-нибудь все сказать…» По-разному объясняла Муся и
слова Брауна о первом предупреждении: может быть, у него было легкое
кровоизлияние в мозг, — не потому ли он упомянул и о гатизме?
То, о чем говорил в этот вечер Браун, вспоминалось Мусе
смутно, многое в ее памяти и не сохранилось. Она помнила, что он долго говорил
о политических делах, — прежде ему это не могло прийти в голову. Говорил,
что мир впервые в истории, на свое несчастье, пришел в состояние
приблизительного равновесия сил: число людей, стремящихся к сохранению
установленного порядка, приблизительно равно числу тех, кто заинтересован в его
падении. Половина человечества смотрит на то, как живет в свое удовольствие
другая половина, — вот как мосье Прюдом водил свою жену voir manger les
glaces[264]. Поэтому демократия,
основанная на подсчете голосов, впервые стала нелепой формой правления. Все эти
Бруты от станка и Прометеи из хедера — полуидиоты, но полуидиоты хитренькие, и
в историческую точку они попали верно. Однако, появятся полуидиоты другие, не
уступающие по хитрости этим, и человечество между полуидиотами разных толков
будет метаться картинно и отвратительно, как мечутся, прижимаясь друг к другу,
прокаженные в скверных фильмах из жизни Востока. История мира есть история зла
и преступлений, — из них одна десятая остается нераскрытыми и восемь
десятых безнаказанными. Уж и сейчас над большой частью культурного мира
владычествуют разбойники, которым место на виселице или на каторге, и, хоть
этого не было в Европе по меньшей мере лет двести, все же люди серьезно верят в
прогресс, — самая нелепая из нелепых вер! Непрерывно ускоряется темп
жизни, — в пору аэропланов поколение надо бы считать в пять лет, — и
каждое из поколений поносит, высмеивает, позорит все, к чему стремилось
поколение предыдущее. «Дети» составляют свое духовное добро из того, что
считали отбросами «отцы», — как духи готовятся из дурно пахнущих веществ и
на такие же вещества со временем разлагаются. Кризис отныне вечное состояние
человечества. Может быть, и есть большая дорога истории, но Бог знает, куда она
ведет, да и ведет ли вообще куда бы то ни было? Все умственные и моральные
ценности будут распродаваться с молотка, за гроши, — и то покупателей не
будет, — и правы были афиняне, что на всякий случай воздвигали в храме
статую неведомому богу. Недолгое царство свободы кончилось: люди не уважают
тех, кто обращается с ними не как с лакеями, — все народы сейчас находятся
en état de liberté provisoire[265].
Народоправство стало именно «ненужностью» — и даже ненужностью не очень умной.
Человечество само себя поделит, как на старинных картинах: посадит апостолов по
одну сторону стола, Иуду — по другую. Один лагерь будет тщетно стараться дать
своей красотой моральное оправдание другому. Вожаки, работающие под великанов
революции , в душе себе цену знают, но от своих балаганных слов пьянеют и
они сами. Ничего «дьявольского», ничего от «великого инквизитора», от всей той
бутафории, которую им подкидывают враги, у них нет. Мелкий жулик прикидывается
фанатиком, так как репутация фанатика чрезвычайно нравится жулику, да еще и
полезна ему, ибо эта проклятая «дымка таинственности» действует на воображение
балаганной публики; недаром в каждом чемпионате цирковой борьбы есть
обязательно «Черная Маска»…
— Да, да! — говорила Муся со слезами в голосе, с
восторгом и ужасом. Голова у нее кружилась все больше. Она уже не старалась вставлять
свои замечания.
Потом он говорил о том, что есть люди, стремящиеся к
абсолютному злу, как другие стремятся к абсолютному добру, и что этих жизнь
обманывает так же, как и тех. Мудрые люди, ничего не найдя, придумали утешение
себе и другим: главное-то счастье было, видите ли, в искании, в святом искании.
Но это просто глупо. Единственный способ не быть обманутым: не ждать ровно
ничего, — а всего лучше уйти, как только будут признаки, что пора, —
уйти без всякой причины, просто потому, что гадко, скучно и надоело.
«Примиренным» ли уйдешь или «непримиренным», это твое, никому не интересное,
дело или, вернее, это пустые слова, так как мириться не с кем и не в чем, и не
с кем было ссориться, и некому «почтительно возвращать билет», — а было бы
кому, то зачем же «почтительно»? почитать не за что. Если пришлось нам увидеть
солнечный закат, лес, озера, прочесть Толстого и Декарта, услышать Шопена и
Бетховена — и потом всего этого навсегда лишиться, — то мы не можем даже,
в маленькое утешение себе, назвать это злым, безнаказанным издевательством, ибо
издевательства нет, и ничего нет, и «дьяволов водевиль» это тоже лишь метафора.
Люди, на свое несчастье, постоянно принимают метафору за действительность, а
действительность за метафору. Балансы же подводить незачем, но отчего и не
сказать, что самое волнующее из всего была политика, самое ценное, самое
разумное — наука, а самое лучшее, конечно, — иррациональное: музыка и
любовь. Затем как-то неожиданно он перешел к Мусе, и она, с никогда еще не
испытанным ею стыдом, со страхом, с жуткой радостью, признала, что говорит он о
ней чистую правду, что он видит ее насквозь, со всеми чертами ее тщеславия, с
ее бестолковой вечной игрой, с сокровенными особенностями ее чувств, — в
них она сама себе отчета не отдавала. Потом он еще что-то упомянул о каких-то
орбитах, которые могут и должны сойтись, — по-видимому, он уж больше не
старался быть особенно тонким. «Орбиты — это значит отдаться ему, тут,
сейчас», — подумала еще Муся. — «Это вздор орбиты! — сказала
она, — вот что, хотите, я вам сыграю…» — но на лице его ясно выразилось,
что он совершенно этого не хочет. — …«Я сыграю вам вторую сонату Шопена… —
Лицо Брауна дернулось. — Помните, я вам играла ее в Петербурге. Но теперь
я совершенно иначе играю ее…» Она встала, шатаясь. Он положил папиросу в
пепельницу. — «Я зимой слышала, как ее играет»… — Она еще успела
прошептать и «что с вами!», и «оставьте меня!», и «нет, вы с ума сошли!» — он
все это принимал, как должное, — как то, что ей и полагалось говорить.
«Да, да… Вы глупенькая», — бормотал он.
Потом она плакала. Он сидел в кресле с безжизненным лицом,
ничего не говорил, и не слушал ее. Думал, что если она сейчас перейдет на ты и
скажет: «любишь ли ты меня?», то ее надо бы тут же убить. Муся говорила, что
никогда не была так счастлива, как сейчас, в своем падении.
— В чем падение? — с досадой спросил он и подумал,
что слова «я пала» звучат у нее приблизительно так же неестественно, как
какой-нибудь «Finis Poloniae» в устах раненого героя.
— Вы придете ко мне завтра?
— Да, разумеется… Или послезавтра… У меня завтра
совершенно неотложные дела, — добавил он поспешно. — Но я постараюсь
от них отделаться.
— Какие дела? Какие у вас вообще дела? Я все о вас хочу
знать, все! Всю вашу жизнь!
Он вздохнул и поцеловал ей руку, повернув ее, для большей
нежности, ладонью вверх.
— Я непременно все вам расскажу, — сказал
он. — Непременно. Но не теперь.
|


