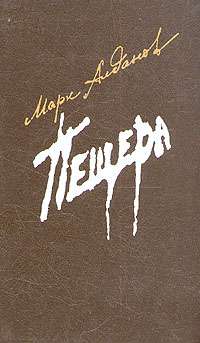
 Увеличить Увеличить |
XXVIII
Второстепенный делегат второстепенной страны торопливо
заканчивал свою речь, — это чувствовалось и по его интонациям, и по
легкому нетерпению слушателей. Первое «я кончаю, товарищи», уже было сказано;
кончился и тот трехминутный срок, который терпеливо дается аудиторией после
успокоительного обещания. Серизье на цыпочках вошел в зал и, в ответ на
укоризненную улыбку председателя, слегка развел руками. — «Нехорошо
опаздывать…» — «Никак не мог, очень прошу извинить…» — «Этот кончает, сейчас
ваше слово…» — «Что ж, я готов, если все меня так ждут. Хотя, право, мне приятнее
было бы не выступать…» — таков был приблизительный смысл обмена жестов и улыбок
между ним и председателем конференции. На ходу Серизье обменялся жестами и
улыбками также с ближайшими друзьями и присел на первое свободное место,
торопливо пожав руку соседу, с видом: «Не сажусь, а только присаживаюсь.
Сейчас, сейчас услышите…» Представители малых народов, участь которых отчасти
от него зависела, беспокойно искали его взгляда. Серизье ободрительно ласково
кланялся им, — со сладкой улыбкой главы государства, угощающего бедных
детей на елке во дворце.
Он плохо слушал оратора; ему всегда было нелегко слушать
других перед собственным выступлением. Теперь, вдобавок, приготовленную речь
надо было совершенно перестроить. Потраченная на нее работа, разумеется, не
пропадала: могли быть использованы и выигрышные места, и шутки, и остроты. Но
приходилось изменить настроение, весь план боя. Серизье каждую большую речь
рассматривал как бой со слушателями, — иногда дружелюбный, иногда злобный.
Он редко знал наперед, удастся ли ему установить то, что называл контактом с
аудиторией и что ощущал почти физически. По школьным воспоминаниям о рисунке в
учебнике физики Серизье себе представлял этот загадочный контакт как идущие в
зале от оратора фарадеевские силовые линии. На трибуне, сохраняя безупречную
стилистическую форму речи, помня и о порядке доводов, и о шутках, и о жестах,
заботливо ведя сложную актерскую игру, он, вместе с тем, внимательно следил за
аудиторией и бросал силовые линии то в один, то в другой конец зала.
Здесь, на международной конференции, говорить было много
труднее, чем в парламенте. Вдохновение отчасти парализовалось тем, что
некоторые слушатели плохо понимали по-французски. А, главное, в палате
депутатов были открытые враги, — была ясная мишень для стрельбы. Здесь
открытых врагов не было. Некоторых участников конференции он совершенно не
переносил, одних презирал, других ненавидел. Но формально все это были
товарищи, — порою кое в чем ошибающиеся, однако, друзья, с которыми и
говорить полагалось, за редкими исключениями, в сладком дружественном тоне.
Этим чрезвычайно ограничивалась возможность красноречия: в гамме оказывалось
половинное число нот.
Он обводил глазами зал, изучая поле предстоящей битвы.
Вражеская позиция находилась у столов, где сидели русские делегаты. Тон по
отношению к ним был выработан: грустно сочувственным тон, уместный в отношении
эмигрантов. Все эти люди понесли в России жестокое поражение, потеряли свою
страну и утратили связь с ее рабочим классом. За ними теперь никого не было. Их
и допустили сюда, собственно, больше из вежливости, да еще по дореволюционным
воспоминаниям. Правда, у них были мандаты с бланками, печатями и с
социалистическим девизом: но всякий понимал разницу между сомнительными
бумажками этих сомнительных делегатов и подлинным мандатом, вроде того,
который, например, сам Серизье получил от французского рабочего класса. Из
вежливости, по воспоминаниям о прошлом, из-за фиктивных бумажек с печатями и с
девизом, нельзя было лишить голоса этих людей. Однако, конференции не следовало
забывать, что перед ней эмигранты, выброшенные собственным народом и потому
насквозь проникнутые злобой к победителям. Конечно, коммунисты преувеличивали,
называя их реакционной армией Конде. Некоторые из этих людей, он знал, провели
долгие годы в тюрьмах, на каторге, в Сибири. Но, при своих личных достоинствах,
при своих заслугах в прошлом, — они были эмигранты. Все это неудобно было
сказать прямо. Это следовало дать понять конференции тем грустно-сочувственным
тоном, в котором Серизье обращался к русским делегатам.
Другие вражеские столы принадлежали правым французам и
правым немцам. Эти с первого дня должны были занять на конференции
оборонительную позицию. За ними, в пору войны, скопилось столько грехов, что их
всех, собственно, можно было бы исключить из партии, — если б их не было
так много. Венгерские события должны были нанести им решительный удар.
Главными союзниками были англичане, почти все представители
нейтральных стран и немецкие независимые. По случайности, Серизье как раз
присел к левому немецкому столу. Нерасположение к немцам было у него в крови,
но с независимыми и с австрийцами он поддерживал самые добрые отношения,
благодушно ими любуясь. Люди эти в полном совершенстве владели марксистским
методом. Никто в мире так не владел марксистским методом, кроме русских
большевиков, — Серизье очень забавляло, что люди, пользуясь одним и тем же
безошибочным методом, пришли к необходимости истреблять друг друга. Он никогда
не спорил с этими людьми: достаточно было взглянуть на их лица, чтобы убедиться
в полной безнадежности спора: решение, все равно, будет ими принято по методу,
которым они так хорошо владели. Но иногда он натравливал их на своих
противников, цитируя еретические суждения, — они приходили в ярость, и
Серизье улыбался, чрезвычайно довольный. На этот раз резолюция, которую он
предлагал, совершенно совпадала с предписаниями марксистского закона; поддержка
левых немецких делегатов была обеспечена.
Пожалуй, не менее ценными союзниками были англичане. Эти,
правда, марксистским методом не владели, сочинений Маркса отроду не видели и
вообще в книги заглядывали мало. Но зато они представляли весь английский
рабочий класс, а косвенно — всю мощь Британской империи, что было еще лучше
марксистского метода. Англичан, в особенности, фанатика Макдональда, можно было
взять идеализмом.
Второстепенный делегат произнес, наконец: «еще последние два
слова, товарищи», сказал эти два слова и сошел с трибуны со скромным видом:
«да, конечно, бывают и более важные речи, но все же и я говорил очень
прилично». Ему похлопали. Председатель, не владевший французским языкам, знаком
пригласил на трибуну Серизье, старательно выговорив его фамилию. Несколько
человек, гулявших в коридорах, поспешно, на цыпочках, вошли в зал и заняли
места. Разговоры вполголоса прекратились. А на хорах старый журналист, —
он представлял буржуазную газету и потому имел право только на место
наверху, — угрюмо написал в тетрадке с отрывными листочками: «На трибуну
поднимается Серизье. В зале движение».
Серизье не поднялся на трибуну, так как ступенек при ней не
было; ораторская кафедра просто стояла на полу, почти у самой сцены. На лице
его играла улыбка, все так же означавшая: «да, да, сейчас скажу чрезвычайно
важную речь. Но, право…» Он взглянул на графин и привычным жестом оперся на
стол обеими руками, — стол был чуть-чуть высок. Юноша с красной повязкой
пронесся по залу и налил воды в стакан. Серизье поблагодарил его улыбкой.
Вступительной фразы он так и не успел заготовить: рассчитывал уцепиться за
что-либо в речи предшествовавшего оратора. Однако уцепиться было не за что;
предшествовавший оратор был слишком незначителен и представлял неинтересное
государство.
— Camarades, ce n’est pas sans une certaine hésitation
que je prends aujourd’hui la parole[172], —
начал Серизье, примеряя голос к залу: он никогда еще здесь не выступал. Первые
его слова решительно ничего не означали. Но их всегда можно было сказать — так
газетный человек пишет «считаем излишним напоминать о том, что…» — и
напоминает. Серизье, собственно, еще и сам толком не знал, какие именно
колебания у него были, — что-либо подходящее можно было придумать в
процессе составления фразы (да и никто не мог, в самом деле, потребовать у него
отчета, почему именно он решил выступить с речью). Первые фразы предназначались
для звукового введения. В зале все заняли места. Установилась тишина. Серизье
медленно и равномерно обводил слушателей взглядом; ни одна часть зала не могла
пожаловаться на невнимание. Он начал с левых. Первая силовая линия была брошена
к ним.
— …Ah, combien vous avies raison, camaracle Mac
Donald, — говорил мягко и нежно Серизье (обращение, впрочем, пропадало
даром, так как Макдональд не понимал ни слова), — combien vous aviez
raison de dire que la Grand-Bretagne est aujourd’hui entrée plus loin dans la
méthode révolutionnaire que tout autre pays! Votre beau discours d’un si
puissant souffle socialiste, et le vôtre, mon cher Hilferding, d’un esprit
revolutionnaire si élevé, laissez-moi vous dire, — он повысил голос (эти
слова тоже всегда можно было сказать: они были очень удобны в звуковом
отношении и для передышки), — laissezmoi vous dire, ces magnifiques
discours m’ont profondément impressionné!..[173]
Начало его речи было посвящено ужасам войны и преступлениям
вызвавшего ее капиталистического строя. Он говорил лишь о капиталистическом
строе, но несколько ядовитых вводных фраз показывали, что, кроме
капиталистического строя, виноват еще кое-кто другой. Строго укоризненный
взгляд Серизье держался при этом на правых немцах. Правые немцы были немедленно
изолированы, силовые линии были сразу брошены к бельгийцам, к правым
французам, — те и другие требовали осуждения правых немцев, — к
главному англичанину, — Рамсей Макдональд был против вмешательства Англии
в войну, — к немецким независимым, — они так же строго-укоризненно
кивали: все, что говорил Серизье, совершенно соответствовало марксистскому
закону. У изолированных правых немцев был смущенный а виноватый вид. Сражение
началось превосходно. Серизье осторожно подходил к главной вражеской позиции.
— …Eh, mon Dieu, l’idéal socialiste, je ne dis pas
qu’il sera réalise demain partout,[174] —
говорил мягко Серизье. Эти слова успокаивали правую часть собрания, но,
собственно, против них, благодаря словам «demain» и «partout», ничего не могли
возразить и левые: нельзя же немедленно осуществить социалистический строй,
например, в Абиссинии или в Китае — Et pourtant, — он на секунду
остановился, качая головой, и немного повысил голос. — Et pourtant, comme
beaucoup d’entre nous, je ne sais pas si nous avons fait tout notre devoir
socialiste!..[175]
Послышались первые рукоплескания из-за столов левых
делегатов. Правые молчали еще недоверчиво, но не гневно: Серизье говорил в
первом лице, — да и кто может сказать, что выполнил весь свой долг? На
трибунах для публики настроение еще не определилось. Трибуны были битком набиты
людьми. По их виду, по одежде, по лицам, Серизье смутно догадывался, что они
настроены решительно и радикально. Люди на трибунах не голосовали, не имели
здесь никаких прав, однако, их настроение было очень важно: они точно давили
своей темной массой на зал.
Он с силой бросил слова «qu’ils soient», и ударил кулаком по
столу, — самая интонация показывала, что тут необходимо аплодировать. И,
действительно, аплодисменты раздались не только за столами левых делегатов, но
и на местах для публики, — председатель укоризненно взглянул наверх. В ту
же секунду Серизье почувствовал, что выиграет бой. Жесты его стали увереннее и
энергичней. Он уже ходил около стола, вполне владея собой, пристально
вглядываясь в зал. Голос его окреп, фраза стала глаже и полнее. Теперь он довел
себя до того нервного напряжения, при котором только и удавалось делать все
одновременно: строго следовать плану боя, облекать мысль в правильную фразу,
чеканно бросать слова, находить нужный жест, следить за аудиторией и за темной
массой там, далеко, наверху. Раза два чеканные фразы уже вызвали тот тон
рукоплесканий, который его заражал счастливым волнением. Правые немцы
подавленно молчали, видимо, сокрушенные всем, что происходило в мире, от победы
маршала Фоша до настроения этой конференции. Независимые одобрительно
кивали, — Серизье говорил по закону. Ропот слышался только за русским и
грузинским столами, — теперь он подбирался к ним искусным обходным
движением.
— …Cette Russie, ce gouvernement bolcheviste, —
говорил Серизье, низко пригибаясь к столу. — Mais oui, mon cher Mac
Donald, mais oui, — растягивал он слова, точно обращаясь к детям, —
mais oui, n’oublions pas le tzarisme! Votre forte parole, je
l’ai toujours présenle à l’esprit. Ayons de l’indulgence pour ceux qui, après
avoir héroiquement renversé I’abominable régime tzariste, ont reçu de lui un
lourd héritage séculaire![176]
Аплодирующая часть зала сразу очень расширилась.
Аплодировали даже правые, смутно припоминая, что царский строй был свергнут не
большевиками. Серизье отпил глоток воды и продолжал:
— …Et cette République des Soviets, — говорил он
необычайно мягко, склонив голову на бок. — Camarade, ai-ie besoin de dire
que je ne suis pas ni bolchevik, ni bolchevisant?[177] — Он даже слабо засмеялся: так невероятно
было подобное предположение. — Il у a certainement des choses que nous
autres, Occidentaux, ne saurions ni comprendre ni accepter…[178] — Улыбка стерлась с его лица, оно приняло
грустное и нахмуренное выражение: под этим choses[179] Серизье разумел большевистский
террор. — Je me réserve pour les débats ni ultérieurs, pour notre futur
congrès, l’examen des precédés de la dictature révolutionnaire. Mais, sans copier ni approuver la méthode de ceux qui transforment
la société capitaliste en société socialiste, ne condamnons pas de grands
révolutionnaires!.. Car grands revolutionnaires ils sont, oui camarades[180], — с
грустно-сочувственным выражением обратился он к русскому
столу, откуда слышался ропот. —
Et surtout nees condarnnons pas sans les avoir entendus! — N’oublions pas
que nous avons décidé d’envoyer une commission d’études en Russie. En attendant
cet effort de clarté entrepris dans un esprit fraternel à l’égard d’un grand
peuple, saluons, saluons ses efforts splendides, saluons avec enthousiasme les
victoires de la classe ouvrière russe![181]
Так он говорил минут двадцать, испытывая несравненное
наслаждение от борьбы, развивавшейся очень успешно. Контакт со слушателями был
полный, — они все сочувственнее откликались почти на каждую его фразу.
Клервилль из своей ложи хмуро смотрел на Серизье. Личная неприязнь его к этому
человеку теперь дополнялась общим раздражением против социалистов. Ему даже
было досадно, что он оказался на этой конференции, хотя бы и на местах для
посторонней публики. «Может быть, в самом деле, во мне говорит сословное или классовое
чувство?.. Но какими же все-таки дураками, верно, считает своих слушателей этот
беззастенчивый демагог! Чего, собственно, он хочет? Принятия его резолюции?
Кому интересна его резолюция? Ее напечатает одна газета из десяти, а помнить ее
через три дня будет один читатель из тысячи. Слава же, — с насмешкой думал
Клервилль, — слава от резолюции, вдобавок, разделится между всеми левыми
вождями… Так и при матче в футболе победа сама по себе ни для чего не нужна, и
слава дробится между всей победоносной командой… Господи, что он говорит!..»
Серизье осторожно доказывал, что собственно, и победой своей союзники отчасти
обязаны большевикам, разлагающему действию их пропаганды на войска германского
императора. Эта фарадеевская линия, впрочем, не вполне удалась. «C’est stupide,
се que vous dites là!»[182] —
закричал, не выдержав, правый французский социалист. За грузинским столом
вскочил в бешенстве один из делегатов. Но в других частях зала, и особенно на
местах для публики, рукоплесканья становились все дружнее. Серизье встретился
глазами с грузинским делегатом, — он знал, что это очень сильный и
талантливый противник, — и, опершись обеими руками на стол, продолжал,
повысив сильно голос и отчеканивая каждое слово.
— Non, camarade, се n’est pas au moment où les puissances alliées, contrèrement au væu
unanime du peuple russe, donnent tout leur appui à la pire contrerévolution…[183] — аплодисменты
загремели в зале и наверху… — Се n’est
pas au moment où les soudards tsaristes tels qu un Denikine ou un Koltchak,
étranglent la volonté populaire, ce’n’est pas à ce moment-là que je condamnerai
cette belle, cette magnifique révolution russe![184]
Конец его фразы потонул в бурных рукоплесканиях. Теперь
аплодировал почти весь зал: Серизье, собственно, говорил не столько о
большевиках, сколько о русской революции вообще. Он, к тому же, как будто не
отказывался осудить большевиков, он только не хотел их осуждать в то время,
когда они подвергались насилию со стороны генералов. Против этого не возражали
и русские социалисты, — на русский стол и так начинали поглядывать косо.
Обходное движение удалось превосходно. Внезапно Серизье оторвался от стола,
вынул из кармана газету и торжественно ее поднял. Он теперь походил на
тореадора, который, после долгого блестящего боя, нацеливается для последнего
удара быку. Рукоплескания затихли.
— Camarades, je viens d’apprendre une chose terrible,
abominable[185], — сказал Серизье
совершенно другим, дрогнувшим и разбитым голосом. У него даже несколько
исказилось лицо. — Се journal qui vient d’arriver, vous ne l’avez pas
encore lu… — Он, видимо, с трудом справлялся с волнением. В зале настала
тишина. — Vous connaissiez la pénible défaite de la classe ouvrière
hongroise… Tandis qu’il se trouve parmi nous des socialistes (с
горькой иронией он подчеркнул это слово) que ne veulent
accorder leur solidarité fraternelleaux républiques prolétariennes traquées par
les gouvernements bourgeois, un abominable attentat vient d’être commis contre
la liberté du peuple hongrois! (Hou! Hou!)[186] (раздались возмущенные
крики). Camarades! Les troupes roumains entreent à Budapest
sur l’ordre de Georges Clemenceau!..[187]
В зале поднялась буря. Председатель стучал по столу, строго
глядя на трибуны. Серизье поднял руку, призывая к молчанию.
— Voici la nouvelle que nous annonce un journal bourgeois.
On exigera de l’Autriche (он на мгновение остановился. Зал напряженно ждал)… — Les bourreaux étrangères, obeissant au sinistre vieillard,
exigent de l’Autriche… I’extradition du camarade Bela Kuhn![188] — вдруг
почти истерически вскрикнул Серизье.
Левые делегаты в зале повставали с мест. Их примеру
последовала большая часть журналистов и публики. Крики негодования наверху
превратились в настоящий рев. Серизье стоял на трибуне, опершись левой рукой на
стол и держа в протянутой правой руке газету, как бы предлагая каждому
удостовериться в точности его сообщения. Только в глазах его, направленных к
русскому столу, едва заметно играла торжествующая усмешка победителя. Вдруг он
бросил на стол газету и, подняв руки к потолку, закричал совершенно диким,
бешеным голосом:
— Camarades, ce cerait le crime des
crimes!.. Camarades, vous ne le permettrez pas!..[189]
Бурные рукоплескания покрыли его слова. Наверху кто-то
затянул «Интернационал». Все поднялись с мест. Серизье, с вдохновенным лицом, в
застывшей позе стоял у стола. В зале гремел негодующий хор.
|


