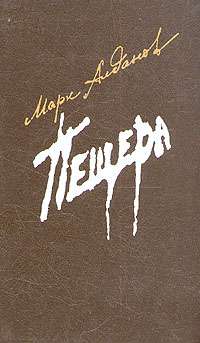
 Увеличить Увеличить |
XXI
Улучшение в здоровье Кременецкого продолжалось и в следующие
дни. Боли прекратились. Семен Исидорович перестал думать о смерти. Не думал он
больше и о том, что жизнь, в сущности, не удалась, несмотря на общественные
заслуги. Философские книги Тамара Матвеевна потихоньку убрала со столика. Она
все еще не верила счастью: перед ней был прежний Семен Исидорович! В этот день
утром он весело и остроумно разговаривал о политике с Клервиллем и со своим
украинским приятелем. Перед завтраком они долго гуляли, и прогулка не утомила
больного.
— Это ты, мое солнышко, принесла мне здоровье, —
сказал Мусе Семен Исидорович днем за чаем, который они теперь пили не в номере,
а на веранде, выходившей на озеро.
— Как я рада! Вас, папа, действительно, узнать нельзя,
когда вы выбриты и одеты, не то что в первый день после нашего приезда.
— Просто другим человеком себя чувствую!.. Ведь я,
право, одно время думал, что окочурюсь…
— Я тебя очень прошу! — начала, бледнея, Тамара
Матвеевна. — Ты отлично знаешь, как я это ненавижу! Никакой опасности и
прежде не было. Зибер мне прямо сказал…
— Много он знает, твой Зибер! Все это одна грабиловка,
всех их в мешок, да в воду! — сказал с досадой Семен Исидорович, вспомнив
опять профессора с длинной бородой, который не находил нужным успокаивать
больных. — Это форменный дурак, Мусенька, ты его не знаешь. Придет,
выслушает с похоронным видом за свои сто франков, и потом велит не волноваться,
точно в насмешку! Хорошо, что я не из пугливых и не слишком боюсь старушки с косой…
Двум смертям не бывать…
— Я тебя умоляю!..
— Ладно, ладно, не буду…
— Тем более, папа, что теперь вы совершенно здоровы.
Старушка с косой очень далеко.
— Может, и не совершенно здоров, но я прямо другой
человек стал, — повторил весело Семен Исидорович. — По сему случаю
под вечер выйду, один, погуляю, когда жар спадет… Думаю пойти к Люцернскому
льву, люблю этот шедевр без меры, так бы часами смотрел, — говорил Семен
Исидорович вполне искренно: Люцернский памятник льва напоминал ему его самого,
особенно на посту в Киеве.
— Ты, Мусенька, представить себе не можешь, —
вставила, сияя, Тамара Матвеевна. — Мы прошли минимум пять километров, к
самой Drei Linden[151] и
еще дальше кругом… Ты ведь знаешь, что доктор настаивает: гулять, гулять и
гулять! Но обыкновенно мы ходим медленно, — из-за меня, конечно, —
добавила она, — мне трудно ходить быстро. А сегодня я за папой прямо не
поспевала! Все хочет бежать, как будто его, как в Питере, ждет десять тысяч
дел!
— Я так и думала, папа, — сказала Муся, с ужасом
представляя себе скуку этих прогулок ее родителей. Муся не догадывалась, что
для Тамары Матвеевны они были высшим наслаждением: потеря состояния и горе,
которое бедность причиняла Семену Исидоровичу, в значительной мере возмещались
для нее тем, что она теперь проводила с мужем целый день. — Я так и
думала, что ваша болезнь, не говорю вся, но на три четверти, была от
переутомления и от нервов. Вспомните, как вы переволновались с тысяча девятьсот
семнадцатого года!
— Скажи еще, что папа почти не отдыхал с самого начала
войны! Две недели в Сестрорецке, или несколько дней на Иматре, разве это был
отдых при его каторжном труде! Сколько раз я его умоляла уехать месяца на два,
в Крым или в Кисловодск… А потом Киев, ты забываешь Киев! Я иногда во сне вижу,
как мы оттуда бежали! Как мы только с ума не сошли! Это просто чудо, что нас не
схватили и не расстреляли! — говорила с ужасом Тамара Матвеевна, видимо,
находившая вполне естественным, что заодно с мужем полагалось расстрелять и ее
и что они должны были сойти с ума вместе. — Я всегда повторяю папе, что
после нашего спасения из Киева мы ни на что больше не имеем права жаловаться.
— Знаете что, папа? — сказала Муся. —
По-моему, вы должны написать свои воспоминания.
— А что я ему всегда говорю!
— Мемуары? Вы думаете, это мне самому не приходило в
голову? — спросил со вздохом Семен Исидорович, жадно выпивая залпом стакан
холодного чая. — Я всегда жил очень интенсивной жизнью, и было не до
записывания. А жаль! Теперь, конечно, надо бы написать…
— Так вот вы и напишите.
— Вот я сам всегда шутил над сановниками, которые, уйдя
в отставку, садятся за мемуары. А ведь шутки в сторону: разве то, что я видел и
делал хотя бы в этом самом Киеве, Рада, гетман, моя роль, разве это не самая
настоящая история?
— Разумеется! Какой вопрос! — подтвердила Тамара
Матвеевна.
— И особенно теперь, когда на нас только ленивый не
вешает собак, — продолжал, увлекаясь, Семен Исидорович, — собственно,
моя прямая обязанность, мой морально-политический долг произнести для потомства
защитительную речь по этому большому делу. От нее многим не поздоровится, от
моей речи, — с угрозой добавил он. — Я не спорю, были допущены
ошибки, все мы человеки, и не ошибается тот, кто ничего не делает. Но общая моя
линия была безукоризненно верной, и я это докажу… Я знаю, было очень легко и
просто встать в стороне, со скрещенными руками, не лезть в драку и критиковать,
храня белоснежность ризы. Но это не в моей натуре, и я…
— Тебе вредно волноваться, я тебя прошу, ради меня…
— Ах, оставь, золото! Да, конечно, надо написать
мемуары! — сказал Семен Исидорович, вставая. Он большими шагами прошелся
по веранде.
— Вот вы за них и сядьте, папа. Я уверена, что это
будет интереснейшая статья.
— Не статья, а целая книга. Еже писах, писах. Тогда
начать с молодости, провести, так сказать, основную линию, по которой мы шли,
нарисовать идеалы, которым я служил с первых лет жизни. Я начал бы с
Деляновских гимназий, бывших рассадником глухого оппозиционного духа в России,
вся эта мертвечина людей двадцатого числа, латынь, которой нас пичкали чехи, —
как все это претворялось в юной душе харьковского гимназиста! Потом Питер,
университет, первая заря освободительных идей, адвокатура, общественное
служение, замечательные люди, которых я знал, и, наконец, революция, тот крах,
который я предвидел с первого дня!..
— Я тебя умоляю, не волнуйся!
— …Потом Киев, — и вот, разбитое корыто! —
сказал горько Семен Исидорович, обводя жестом Люцернское озеро. — Ну да,
что ж! Для работы всякого человека есть предел, его же не прейдеши.
— Ты знаешь, Мусенька, я ведь, конечно, вывезла папку с
юбилеем, все отчеты, статьи, фотографии, речь самого папы. Только смялось
немного, когда мы бежали: у меня это было спрятано под лифом. В Житомире, когда
мы с минуты на минуту ждали, что попадем в руки чекистов, я чуть сама ее не сожгла.
Все приготовила, чтобы сжечь в последнюю минуту, но, слава Богу, удалось
провезти. Едва ли у кого-нибудь есть все это в Европе. Ты это вставишь в книгу.
— Да, конечно, может пригодиться и этот материал. В
качестве простой иллюстрации, — скромно сказал Семен Исидорович.
— А если тебе трудно писать от руки, так ты можешь мне
диктовать.
— Нет, диктовать я не мог бы. Тут надо обдумывать
каждое слово, это не письмо. Но уж если я решусь засесть за мемуары, то мы
возьмем напрокат машинку.
— Разве вы умеете писать на машинке, папа? Я не знала.
— Представь себе, папа научился в какие-нибудь две
недели, — и как! В Берлине, где мы жили, у хозяина пансиона была русская
машинка, и он ее предоставил папе, чтоб научиться. Он так уважал папу! И папа
через две недели стал писать прямо, как Анна Ивановна… Помнишь Анну Ивановну,
которая у нас в Питере служила в канцелярии папы? Хорошая девушка, так была
привязана к папе. Мы слышали, она теперь страшно бедствует…
— Не как Анна Ивановна, но кое-как строчу.
— А от руки папе теперь труднее писать. Я даже
настаивала, чтоб папа купил машинку. Он здесь видел чудный Ремингтон с русскими
буквами, но страшно дорого: пятьсот франков.
— Разве это так дорого?
— Мусенька, пятьсот швейцарских франков!
— Папа, вот что я вам скажу. Через шесть недель день
вашего рождения (Тамара Матвеевна просветлела оттого, что Муся это помнила). Мы
с Вивианом уже давно думаем: что бы вам купить в подарок? Но в сентябре я опять
буду Далеко от вас. Надо будет, значит, посылать по почте, это трудно, и пересылка
стоит денег, да еще придется платить пошлину. Так вот что мы сделаем: вы нам
позволите поднести вам теперь, раньше срока, в подарок эту самую машинку.
— Какой вздор!
— Почему вздор?
— Где же видано дарить такие дорогие подарки! И это
выйдет, что мама напросилась…
— Папа, как вам не стыдно! Вот не ожидала!.. Вы мне всю
жизнь делали самые дорогие подарки, — вот и это еще недавно, все
восхищаются, — она показала на цепочку с жемчужиной, которой не снимала в
Люцерне, чтобы сделать Удовольствие родителям. — А теперь, когда у меня
впервые появились свои деньги, я, очевидно, должна послать вам ко Дню рождения
коробку конфет? Да?.. Вы говорите, пятьсот франков дорого? Ничего не поделаешь,
должна вам сказать по секрету, — не выдавайте только меня Вивиану, —
что он для вас в Париже выбрал подарок почти в полтора раза дороже: хронометр,
вместо того, который у вас украли, — экспромтом солгала Муся.
— Как это мило! Я говорю об его внимании. Хронометр мне
теперь не нужен, купил в Варшаве стальные часы за два доллара и очень доволен.
По одежке протягивай ножки.
— Он страшно милый, Вивиан, страшно.
— Вивиан не купил хронометра только потому, что я его
уговорила не торопиться: сознаюсь вам, я хотела сначала у мамы узнать, что
именно вам доставит удовольствие. Значит, вы нам на этой машинке только
сделаете экономию.
— Милая Мусенька, я не о деньгах говорю: мне и коробка
конфет от вас была бы, разумеется, равно мила: мал золотник, да дорог. Но я к
тому говорю, что радоваться, собственно, нечему: пятьдесят четыре года стукнет
человеку, плакать бы надо, — что ж, знаменовать сие событие подарками, да
еще такими дорогими?
— Да ведь я вам всегда по таким же событиям дарила
подарки, только на ваши же деньги. Нет, нет, это дело решенное!
— Нисколько не решенное.
— Я слышать ничего не хочу! Куплю машину и велю вам
послать. Что вы можете со мной сделать?
— Если Мусенька так настаивает? — сказала
нерешительно мужу Тамара Матвеевна. Ей самой было несколько неловко, особенно
от того, что о машине заговорила она; но она знала, что этот подарок будет
большой радостью для Семена Исидоровича. Он все любовался Ремингтоном в витрине
и отказывался от покупки из-за высокой цены. — Если они так решили, и если
они еще рассердятся на нас?..
— Я очень рассержусь, прямо говорю. Нет, папа,
пожалуйста, не спорьте.
— Милая моя, сердечно тебя и Вивиана благодарю, —
сказал, сдаваясь, Семен Исидорович. — Я очень тронут. И уж если говорить
правду, то лучше подарка ты никак не могла бы мне сделать. Сам бы я этой
машинки не купил, при наших пиковых делишках: был конь, да изъездился. А если
машинка будет, то я, наверное, тотчас засяду за работу… Ничто так не уясняет
собственных мыслей, как чтение текста, написанного на машинке: тотчас видишь
то, что в рукописи совершенно теряется. Я думаю, Достоевский писал бы иначе,
если бы в его время были пишущие машинки… А мне, повторяю, давно хочется все
записать и подвести итоги… Ума холодных наблюдений и сердца… Чего сердца?..
— Я страшно рада. Но давайте, не откладывая, сделаем
это сегодня же. Дайте мне адрес магазина и объясните, какая машина?
— Ну, нет, это так не делается. Машинку покупать, это
что жену выбирать…
— Благодарите, мама.
— Надо самому все осмотреть, проверить буквы,
попробовать, и так далее. Тогда уж пеняй на себя, пойду с тобой.
— Отлично, но когда же? Хотите, поедем со мной на эту
несчастную конференцию, — я сейчас туда должна бежать, — а на
обратном пути купим машинку? Я на конференции пробуду недолго. Надо ведь
позаботиться и о нашем сегодняшнем обеде… Как жаль, что вы не хотите прийти к
нам обедать.
— Нет, что же, мы с папой только вас стесним.
— Нисколько, мама, но как знаете…
— Кто у вас будет к обеду? Этот француз и доктор Браун?
Ну, что же он?
— Ничего… Живет, на всех сердится. Злые языки говорят,
что он медленно сходит с ума.
— Неужели? Ты нам вообще так мало рассказала, Мусенька.
Кого же вы еще видите в Париже из наших питерцев?
— Из тех, что бывали у нас в доме? Нещеретова иногда
вижу (по лицу Семена Исидоровича пробежала тень), дон Педро… Ах, да, папа, вы
помните дон Педро?
— Разумеется, помню. Тот репортер?
— Очень умный человек, — начала Тамара
Матвеевна, — он тогда написал такую хорошую статью о папе…
— Так вот, он теперь вышел или выходит в большие люди.
Представьте, у него открылся необыкновенный талант к кинематографу. Какие-то
новые, замечательные идеи! Да, да, представьте себе! Лучшее доказательство: он
нашел огромные капиталы и теперь стоит во главе большого кинематографического
предприятия.
— Что ты говоришь! Ловкий человек!
— Нам как раз перед нашим отъездом рассказывали, что и
Нещеретов примазался к этому делу. Но он на втором плане, а главный там именно
дон Педро… Ну, мне пора… Что же, папа, пойдете с нами на конференцию? Билет я
вам достану через Серизье.
— Мне на социалистическую конференцию, голубушка, и
показаться нельзя. Ты забываешь гетмана, — сказал с усмешкой Семен
Исидорович таким тоном, точно социалисты всех стран непременно тотчас разорвали
бы его на части, если б он среди них появился. — И Вивиану не советую там
говорить, что он мой зять…
— Ему что! Он, слава Богу, не социалист… Так как же нам
быть с машиной?
— Милая моя, эта покупка не к спеху… Спасибо, Мусенька…
— Нет, я непременно хочу, чтобы вы сегодня или завтра
приступили к работе над воспоминаниями. Говорят, для этого нужен запал…
— Можно так сделать. — предложила Тамара Матвеевна,
чувствовавшая, как и Муся, что Семену Исидоровичу страстно хочется получить
машину именно сегодня. — Вот ты собираешься пойти днем на вторую прогулку,
один, без меня, — сказала она, подавляя легкое чувство обиды. — Так
ты по дороге зайди в магазин и скажи, чтобы машинку прислали к нам сюда.
— А счет пусть пошлют мне в «Националь».
— Зачем же так сложно: машинку нам, а счет тебе? Нет,
тогда я ее куплю и заплачу, уж если вы так милы. А ты маме вернешь деньги… Она
у меня теперь казначейша… Боюсь, не обкрадывает ли меня? — пошутил Семен
Исидорович. Он был чрезвычайно обрадован подарком.
— Разумеется. Это, в самом деле, еще проще.
— Только мне, Мусенька, будет странно и смешно получать
от тебя деньги, — сказала Тамара Матвеевна.
|


