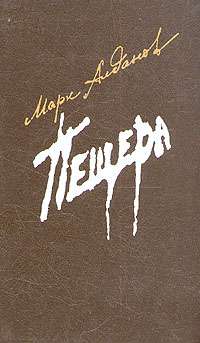
 Увеличить Увеличить |
XXVII
Профессор Ионгман совершил большое путешествие. Желая
подготовить всемирный съезд невидимых, он сначала посетил германские земли. Но
там дело не налаживалось. В Германии лилась кровь и царило огорчавшее
профессора зло. О съезде никто не говорил и не слушал. Иные братья, правда,
соглашались, что следовало бы как-нибудь собраться и сообща обсудить разные
волнующие вопросы: о спасении мира от бед, о вращении солнца, о несерьезной и
непристойной книге «Химическая свадьба Христиана Розенкрейца» и о том, что
должно предшествовать при изготовлении философского камня — нигредо, альбедо
или рубедо. Но говорили они это глядя в сторону, вполголоса, вскользь и весьма
неохотно. Профессор с горьким чувством убеждался, что немецкие братья думают
больше о том, как уцелеть, как не ввязаться в беду, как прокормить себя, жену и
детей. Настоящей потребности в съезде не было и у лучших. Другие же слышать не
хотели о розенкрейцерах, и даже начисто отрицали свою к ним принадлежность:
«никогда невидимым не был, а если куда-то как-то меня затащили, то верно в
пьяном виде, и я давно об этом и думать забыл, да и время теперь другое». В
Кельне же один из братьев, прежде весьма усердный, интересовавшийся наукой,
особенно увлекавшийся вопросом о превращении свинца в золото, в словах самых
неприятных попросил профессора Ионгмана тотчас убраться подобру-поздорову. Все
это весьма огорчало профессора, хоть он и писал бодрые письма братьям, которые
остались верны заветам невидимых.
Весну он провел на водах, ибо чувствовал себя усталым. Но не
отдохнул и не успокоился духом. Случилась в то время с профессором Ионгманом и
неприятность: он вдруг очень потолстел. Сам было сначала не замечал, но шутливо
сказал ему об этом владелец дома, где он жил, старый его знакомый и
доброжелатель. Как на беду, хозяин собирал старые зеркала, стеклянные,
серебряные, полированного камня, и они у него в доме находились везде: висели
на стенах, стояли на высоких табуретах, и даже, по древнему обычаю, вделаны
были в блюда, чашки, бокалы. Профессор стал приглядываться: в самом деле,
двойной подбородок! И с той поры зеркала с утра до ночи напоминали профессору
Ионгману, что он обложился жиром, что появилось у него брюшко, что плешь стала
самой настоящей лысиной. Ему казалось также, что молодые женщины на него больше
и не смотрят. Это было неприятно. Хоть занимался он главным образом наукой, но
иногда думал, что хорошо было бы родиться на свет Божий высоким, тонким
человеком, геркулесовой силы и с огненным взором.
На водах застала профессора Ионгмана страшная весть о гибели
Магдебурга. Много зла принесла людям эта война, но таких ужасов еще никогда не
было. В городе погиб и Тобиас-Вильгельм Газенфусслейн, один из самых лучших
людей и наиболее ревностных розенкрейцеров, встречавшихся в жизни профессору.
Пытался он навести справки, но долго не мог ничего узнать. Лишь много позднее
получил он от шведских братьев сообщение: несчастный Тобиас-Вильгельм
Газенфусслейн действительно погиб. Случайно удалось выяснить, что зарезал его
драгунский офицер Деверу; он же увел с собой, обесчестив ее, племянницу
Газенфусслейна Эльзу-Анну-Марию; дальнейшая участь ее осталась неизвестной
братьям; никто из них этой девушки не знал. Не знал ее и профессор Ионгман. Не
одну ночь провел он без сна, думая о своем приятеле, об его еще более
злосчастной племяннице и спрашивая себя, как допускает Провиденье столь
вопиющие дела.
Между тем военные события шли; шведский король Густав-Адольф
искал мщенья за Магдебург. Говорили, что война распространится по средней
Европе. Профессору Ионгману нужно было побеседовать с итальянскими
розенкрейцерами; он стал понемногу продвигаться на юг, останавливаясь, где
следовало остановиться в интересах дела невидимых. Ничего худого с ним не
случилось в его долгом, опасном путешествии.
В Риме профессор Ионгман оживился. Здесь было совершенно
спокойно. Правил мудрый Урбан VIII, по счету 244-й папа, человек характера
властного и твердого. Жизнь в городе была легкая, радостная и праздная.
Профессору казалось даже, что никто здесь ничего не делает и что всех кормит и
поит веселое итальянское солнце, поставляя, точно без человеческого труда, и
хлеб, и вино, и фрукты, и масляные ягоды, и все земные плоды.
Невидимые встретили в Риме профессора любезно и приветливо,
совсем не так, как немецкие братья. Мысль о съезде они очень приветствовали, но
находили, что лучше бы его отложить: съезд не убежит, торопиться некуда, вот
зимой приедет брат Контарини, тогда обо всем можно будет поговорить как
следует, а до того отчего же дорогому и знаменитому нидерландскому брату не
пожить у них в Риме? Профессору Ионгману казалось, что эти братья недостаточно
заняты серьезными розенкрейцерскими вопросами: правда, слушали они его как
будто с интересом, но трепетного волнения у них не было, а без душевного жара
ничто ценное создано быть не может. Немного странным ему казалось их отношение
к съезду: как можно ждать чуть не целый год приезда брата Контарини! Однако он
оценил чарующую любезность римских братьев. Вышло так, что после первой встречи
разговаривал он с ними больше о посторонних предметах, чаще всего о предметах
второстепенных и легковесных.
Говорили, впрочем, и о политике. Римские невидимые ворчали:
народ коснеет в невежестве и в предрассудках, семья Барберини забрала слишком
много силы, найдутся ведь семьи и не хуже, а папа стал так горд, что и
подступиться к нему нельзя — una salda tenacità dei propri pensieri![266] Кроме того, уж очень он
тянет к Франции; кончится это дело еще, чего доброго, войной с императором. И
хоть отчего же с проклятыми немцами при случае и не повоевать, все-таки
политика эта неосторожная. Говорят ведь, что герцог Фридландский давно
советовал императору двинуться походом на Рим: целое столетие не брал Рима
приступом неприятель и будет, мол, чем поживиться, — Валленштейн же ни в
Бога, ни в черта не верит; по слухам, предлагал он оттянуть от Польши казаков и
двинуть в Италию это дикое, воинственное, свирепое племя.
Слухи такие действительно упорно ходили в Германии. Но в
Риме профессору казалось, что никакой войны здесь не будет, никакие казаки не
придут, а если и придут, то Рим поладит и с казаками, ибо и на них хватит того,
что бесплатно дает итальянское солнце — самое свирепое племя, верно, здесь
повеселеет и станет мирным. Ничто в Риме измениться не может, теперь правит
244-й папа, а будет и 1244-й.
Понемногу стали меняться и намерения профессора Ионгмана.
Первоначально он предполагал пробыть в Италии месяца три, не более — желал
обсудить с невидимыми план съезда, узнать, что делается в разных частях
мира, — нигде этого не знали лучше, чем в Ватикане, — а затем
отправиться в другие земли. Но теперь думал он, что уезжать ему некуда и
незачем. Съезд очевидно надо было отложить. А жизнь здесь была необыкновенно
приятная. Профессор Ионгман сам этому удивлялся: ведь свободы нет и народ
коснеет в невежестве. Но уезжать от веселого солнца ему не хотелось, и пробыл
он в Риме полтора года.
Как-то ученые люди показали ему Галилеевы стекла, при помощи
которых сделал столько открытий престарелый философ герцога Тосканского. Чудо
науки привело профессора в восторг. И тотчас у него всплыла мысль о давнем
научном исследовании: учась в молодости в Германии (мать его была немка), он
много занимался вопросом о том, какого пола звезды; теперь можно было довести
это исследование до конца, пользуясь для наблюдений великим изобретением
Галилея. Мысль эта увлекла профессора. К лету 1633 года он перебрался в Тиволи,
пил целебную воду, от которой спадал жир и возвращались волосы, а все свободное
время посвящал научным изысканиям.
Работа его подвигалась успешно: Галилеевы стекла очень ему
помогли. Выяснилось, что большинство звезд — женского пола. С увлечением читал
профессор вышедший незадолго до того труд мудрого философа: «Dialogo intorno ai
due massimi sistemi del mondo»[267] и,
хоть трудно было ему решить, кто именно прав: Сагредо или Симплицио, он все
больше склонялся к мысли, что, верно, прав Сагредо и, как это ни странно, Земля
вращается вокруг Солнца: очень бойко отвечали Сагредо и его друг Сальвиати на
все доводы Симплицио, и такое имя было дано стороннику вращения Солнца вокруг
Земли, что даже неловко было бы соглашаться с ним. Для выяснения же пола звезд
Галилеев диалог дал профессору немного; однако кое-какие мысли он из диалога
использовал.
Ученый труд его был почти закончен, когда пришло грустное
известие: созданная в Риме чрезвычайная комиссия признала еретическими взгляды
Галилея, философ должен был коленопреклоненно отречься от своей ереси. Известие
это очень потрясло профессора Ионгмана. Он увидел в случившемся тяжкое
оскорбление для ума и достоинства человека. Вдобавок при таком фанатизме
властей легко могла быть признана опасной его собственная работа о поле звезд.
Тиволи вдруг перестал нравиться профессору: слишком много тут развалин, и не
так уж хороша вилла кардинала д’Эсте, и немало есть в природе зрелищ прекраснее
водопадов Тевероне. Воды же реки этой упорно отражали его фигуру. Веселое
солнце больше не радовало профессора Ионгмана. При виде забытых могил людей,
проживших жизнь шумную и славную, приходили ему в голову те мысли о бренности
человеческого существования, которые всегда приходят в подобных случаях, Зачем
так устроен мир, что разваливается и сам человек, и каменные дела его, и
исчезает о нем память? Одна надежда, что какой-либо не родившийся еще
розенкрейцер великого ума в самом деле составит эликсир жизни. Но удастся ли
тогда воскресить уже умерших людей? И думая обо всех этих важных предметах,
профессор Ионгман решил, что теперь, закончив свой ученый труд, он должен усердно
заняться розенкрейцерской работой: съезд совершенно необходим, а созвать его
можно будет только в свободных Нидерландах. С умилением и гордостью вспоминал
профессор свою родину, где можно мыслить и печатать ученые труды спокойно, под
защитой мощных бастионов Амстердама.
Он простился в Риме с друзьями. К его скорби, они отнеслись
к осуждению Галилея почти равнодушно — для вида ворчали и бранили
правительство, но тотчас переходили к другим, легкомысленным делам. Некоторые,
по-видимому, и не знали об осуждении или на следующий день о нем позабыли.
Косневший же в невежестве народ не слыхал и имени мудрого философа. Впрочем,
римские невидимые соглашались с профессором Ионгманом в том, что так оставить
дело нельзя: нужно созвать съезд, вот только приедет брат Контарини. На
прощанье в честь профессора устроили большой обед, пили за его здоровье
мускатное вино с Везувия, названное именем языческим, и в самых лестных речах
желали успеха его ученому труду — предмета же этого труда профессор Ионгман
римским невидимым не сообщил.
Затем профессор выехал в Париж для дальнейшей работы по
созыву съезда. Но, к глубокому его изумлению, в Париже ни одного невидимого не
оказалось. Люди, которые, по его сведениям, были розенкрейцерами, решительно
ничего не понимали, когда он обращался к ним с условными словами. Он показывал
золотую розу на синей ленте, они с любопытством ее рассматривали, но, видимо,
совершенно не знали, что это такое и зачем им это показывают. Так ни разу он и
не услышал: «Ave Frater».[268] Когда
же в обществе, где, по его мнению, должны были находиться невидимые, профессор
осторожно заводил речь о таинственном братстве, все весело хохотали: никаких
невидимых на свете нет, это ерунда, скорее же всего выдумывают такие басни для
своих целей изуверы и мошенники из «La Cabale» — общество, так именовавшееся,
приобретало все большую силу и не было меры злу, которое им творилось. Не нашел
в Париже профессор Ионгман и должного внимания к своему ученому труду. Услышав
о женском поле звезд, одни ученые умолкали и поспешно отходили, другие трепали
профессора по плечу, а то и по животу и с игривой улыбкой говорили слова,
которые он понимал плохо, ибо не владел всеми тонкостями французского языка.
Здесь же узнал профессор, что какие-то темные люди убили в
Эгере герцога Фридландского. Много воды утекло со времени Регенсбургского
сейма; невидимые больше не возлагали особых надежд на Валленштейна. Все же со
скорбью принял профессор это известие, ибо трудно человеку расстаться со
старыми надеждами. В Париже об убийстве герцога говорили очень много, но путали
все чрезвычайно. Фамилию же Валленштейна не мог ни правильно выговорить, ни
правильно написать и сам кардинал Ришелье.
Не подвинув дела во Франции, профессор Ионгман вернулся на
родину. В Соединенных провинциях он опять воспрянул духом. Подышал родным
воздухом, повидал старых друзей, говорил свободно что хотел и о чем хотел —
одно было неприятно: все изумлялись его полноте. Сделал он, разумеется, и
доклад у невидимых. Как вождь и наставник опытный, профессор предостерегал
братьев от уныния: говорил им, что положение в мире тяжелое, но для потери
надежд нет никаких оснований: свет науки и благородная работа розенкрейцеров
преодолеют все беды, косность, невежество и предрассудки.
Доклад профессора Ионгмана вызвал у невидимых большое внимание.
Решено было еще усилить работу и попытаться привлечь в братство новых полезных
и достойных уважения людей. Тут же распределили, кому с кем поговорить. Кто-то
не без робости предложил: что, если снова побеседовать с Декартом? Обсудили и
признали, что надежды мало, но отчего бы в самом деле не попробовать? К общему
удовлетворению, попытку эту согласился сделать сам профессор Ионгман. Он
сказал, что на днях встретил Декарта в печатной мастерской, — «там
набирается мой новый труд, — застенчиво вставил он, все одобрительно
кивали головами, — и Картезий звал меня погостить у него в замке…»
Декарт летом 1634 года снимал замок, расположенный часах в
четырех езды от Амстердама, Профессор Ионгман выехал утром с расчетом, чтобы,
не очень торопясь, попасть к обеду. Для поездки он нанял тележку без кучера —
любил править лошадьми. В другой стране непременно потребовали бы залога за
экипаж; здесь владельцу это и в голову не пришло, хоть он не знал профессора
Ионгмана. По дороге профессор с гордостью думал, что живет в честнейшей стране.
Еще приятнее было то, что путешествовать можно было совершенно безопасно. В
Германии разбойники хозяйничали на миле расстояния от больших городов.
Беспокойно было и на французских дорогах. Только в римской земле был порядок. И
профессор в пути удивлялся: разный строй дает одни результаты — под властью
папы Урбана VIII такое же спокойствие, как в свободных Нидерландах.
Большая часть дороги уже была позади. Но попался уютный
постоялый двор, в стороне от пыльной дороги. Сбоку от домика был маленький сад,
в нем стояли два стола с чистенькими клетчатыми скатертями. Профессор
остановился, отдал слуге лошадь и спросил бутылку пива. К постоялому двору
подъехала богатая коляска. Из нее вышли господин с дамой, одетые весьма
нарядно, не по-дорожному. Дама была совсем молода и очень хороша собой. Они
сели за соседний стол. Профессор Ионгман оглядел их незаметно, точно смотрел
мимо стола на крыльцо: знал светские правила и нескромным никогда не был. Дамой
он полюбовался, ибо любил красивые женские лица. Спутник же дамы, сурового вида
человек, в синем атласном плаще, при шпаге и кинжале, не понравился профессору
Ионгману. Лицо этого человека показалось ему знакомым, но профессор не мог
вспомнить, кто такой: по всему видно, военный. Знакомых же военных было у
профессора Ионгмана не много.
Так как коляска была очень богатая, то к новым гостям, кроме
слуги, вышла и сама хозяйка постоялого двора. Однако объясниться с нею гости не
могли, они были иностранцы. Господин в синем плаще заговорил сначала по-французски, —
видимо для важности, потому что говорил он на этом языке плохо, — затем
перешел на немецкий язык, по-немецки заговорила и дама. Но хозяйка ни одного
иностранного языка не знала и беспомощно оглянулась на профессора. Военный
человек, видимо, начинал сердиться: что за постоялый двор! Профессор предложил
свою помощь. Господин привстал и с легким поклоном сделал жест рукою. Заказал
он целый обед, причем о ценах не спрашивал, и потребовал самого лучшего
французского вина. Хозяйка почтительно доложила, что у нее есть красное горное
вино из Шампани, и белое сладкое, и то, и другое очень хорошие. Еда же есть
всякая: можно зарезать и курицу, если гости согласятся немного подождать?
Оказалось, что гости не спешат. Дама все ахала и восторгалась: «Горное французское
вино? Ах, как хорошо! Яичница? Ветчина с грибами? Курица? Ее любимые блюда! И
какой милый садик!..» Говорила она безумолку, глядя нежно-восторженно на своего
спутника. Профессор с легкой грустью догадался, что это молодожены: хоть занят
он был высшими интересами науки и розенкрейцерских дел, все чаще сожалел, что
не женился в ту пору, когда еще не было у него двойного подбородка и были
волосы не хуже, чем у молодых людей.
Гостям принесли вино. Военный человек опять привстал,
прикоснулся к стакану акульим зубом (чего в Нидерландах никогда не делали) и
предложил профессору выпить с ними. Профессор Ионгман вежливо поблагодарил и,
чтоб не остаться в долгу, велел принести три рюмки настоенной на травах
голландской водки. Господин в синем плаще, видимо, не прочь был поболтать. Тут
же рассказал, что он офицер имперской армии, родом ирландец и едет на побывку к
себе на родину, после чего вернется в Вену, где ему обещан императором полк.
Профессор сказал «Oh!» с почтительной интонацией, относившейся к имени императора
и к высокому служебному положению собеседника. Но в душе, — хоть был
вообще доверчив и плохо понимал, зачем люди лгут, когда гораздо проще и легче
говорить правду, — немного усомнился, действительно ли ирландец имеет чин
полковника: по возрасту это было вполне возможно, однако в облике ирландца было
что-то грубое, неотесанное, — можно ли в имперской армии получить
полковничий чин, не имея должного воспитания?
Вид ветчины с грибами пробудил аппетит у профессора
Ионгмана. Он не знал в точности, когда именно обедает Декарт, — да еще кто
его знает, как он угощает гостей? Профессор велел хозяйке принести другую
порцию ветчины. Полковник ел и пил очень много и жадно. Голландская водка ему
понравилась, но заказывать по рюмке было скучно: он велел подать целый графин и
опорожнил его так быстро, что профессор Ионгман только дивился — эти военные
люди! Дама тоже пила недурно, раскраснелась и весело хохотала при шутках
Вальтера (так звала полковника); а когда в словах его ничего шутливого не было,
приглашала профессора оценить их справедливость, — была, видимо,
чрезвычайно влюблена в мужа. Заметив, что профессор смотрит на ее колечко с
изумрудом, сняла его с пальца и сообщила, что это подарок Вальтера: он в конце
зимы получил большие деньги…
— Много ты врешь! — сказал пьяным голосом
ирландец. — Помолчала бы, а то смотри!.. Помнишь, что было в среду?
Дама смущенно-весело засмеялась. Полковник пояснил
профессору, что держит жену строго: слишком ее избаловали в детстве. Профессор
Ионгман сочувственно спросил даму, откуда она родом. Узнав, что из Магдебурга,
тяжело вздохнул. У него, сказал он, был в этом городе приятель, но погиб при
тех ужасных событиях… Профессор хотел было узнать, не слыхали ли его
собеседники о Газенфусслейне. Но не успел назвать имени своего приятеля: жена
полковника побледнела и перевела разговор на другой предмет.
Так они побеседовали еще с полчаса. Профессор с интересом
расспрашивал ирландца о последних событиях в германских землях: полезно было
поговорить с человеком, который прямо оттуда прибыл. Полковник видел немало, но
рассказывал пристрастно, точно совершенно забыв, что находится он все-таки в
стране лютеранской. Так, на вопрос профессора, кто, по его мнению, победит,
католики или лютеране, расхохотался и сказал, что тут и спрашивать нечего: разумеется,
победят католики. Это замечание и особенно грубый смех полковника не
понравились профессору Ионгману. Он заметил, что у них. в Соединенных
провинциях, военные люди думают иначе. Правда, великого Густава-Адольфа больше
нет в живых, но ведь и у императора нет другого Валленштейна. Жена полковника
снова изменилась в лице. Полковник же расхохотался еще громче и заявил, что
проклятый Валленштейн был изменник: он предался шведам, но, к счастью, Господь
Бог покарал его вот этой рукою. При этих словах он, впрочем без всякой злобы,
показал огромный и страшный кулак, почему-то засучив рукав шелкового кафтана.
Профессор Ионгман остолбенел: не мог понять, что это такое —
если шутка, то какая глупая, если же правда… — но профессор и позднее не мог
решить, что он должен был сделать, если правда: не звать же было полицию для
ареста человека, который назвал себя убийцей герцога Фридландского.
К общему облегчению, в эту минуту к столу подошла хозяйка
постоялого двора. Она с улыбкой попросила профессора Ионгмана перевести
господину и даме ее почтительную просьбу: ей было бы очень приятно, если б они
согласились расписаться в книге для почетных гостей, с давних пор существующей
в ее доме. Профессор так был рад концу неприятной беседы, что и не почувствовал
обиды: расписаться хозяйка просила лишь полковника с женой, о нем же ничего не
было сказано. Он перевел просьбу хозяйки, обращаясь, в знак протеста,
преимущественно к жене полковника. Ирландец, видимо, был польщен, тотчас
согласился и, в сопровождении хозяйки, направился к дому.
Жена проводила его счастливым взглядом. Затем объяснила
профессору, что Вальтер, конечно, немного вспыльчив, но самый милый человек на
свете. Грехи найдутся у всякого воина, — горячо сказала она, — на то
они воины и мужчины. Сердце же у Вальтера золотое, и начальство очень его
ценит. Вот и теперь в Вене он получил награду за службу, так что они стали
богатые люди. Вальтер хочет купить имение в Ирландии, чтобы обеспечить себе
покойную старость. Но она решительно против этого: до старости им еще очень
далеко. Сейчас, правда, в Германии неспокойно, но не всегда же это будет так,
зато все продается очень дешево. А в Богемии, где конфискованы земли разных
изменников, можно купить отличнейшее имение совсем за бесценок, и хоть чехов
она не очень любит, все же это не так далеко, как Ирландия. Вальтер все равно
пока должен служить, ему и отпуск дан только на три месяца, гораздо было бы
лучше на время отпуска уехать в Париж, где, все говорят, так весело, правда?
Она, впрочем, надеется убедить Вальтера на обратном пути побывать во Франции,
там можно будет заказать и платья. Правда, платья и в Вене хороши, она кое-что
купила, но в Париже они еще лучше. А Вальтер, хоть иногда и горяч, в конце
концов всегда ей уступает: такого любящего верного мужа нет, и это теперь надо
особенно ценить, и немало денег он истратил на подарки ей из тех сорока тысяч,
что они недавно получили… Тут жена полковника смутилась: ей не велено было
говорить о сорока тысячах.
Профессор Ионгман угрюмо мычал. Очевидно, сомневаться не
приходилось: он только что дружелюбно пил вино с убийцей Альбрехта
Валленштейна. Убийца же, ясное Дело, ни малейших угрызений совести не
испытывал; был весел, спокоен, счастлив. И странные мысли встревожили Душу
профессора. За ними не расслышал он вопроса дамы. Ей хотелось знать, к какому
ювелиру в Амстердаме обратиться: Вальтер в свое время подарил ей одну золотую
штучку, теперь в Вене он купил еще три отличных больших бриллианта: хорошо было
бы ими украсить первый подарок Вальтера. А то без драгоценных камней роза не
имеет должного вида, не правда ли? С этими словами достала она из сумки золотую
розу на синей ленте. Свет погас в глазах профессора Ионгмана: перед ним была
священная эмблема невидимых! И в ту же минуту он с ужасом вспомнил: этого
убийцу он видел когда-то в Регенсбурге, в доме почтенного врача Майера!
Профессор Ионгман побагровел. Выпучив глаза, он с минуту в
упор глядел на удивленную даму, встал, снова сел, затем сорвался с места и,
мимо возвращавшегося к столу полковника, почти бегом прошел в дом. Потребовав
счет, он заглянул в лежавшую на столе открытую книгу почетных гостей. Там
по-немецки было написано: «Вальтер Деверу, полковник службы Его Императорского
Величества, с женой Эльзой-Анной-Марией».
Лакей с изумлением и беспокойством смотрел на профессора
Ионгмана, пока тот расплачивался по счету. Профессор был смертельно бледен,
руки его дрожали. С ужасом оглянувшись в сторону сада, он поспешно сел в свою
тележку и, расправив вожжи, сильно хлестнул кнутом по лошади, чего никогда не
делал, ибо был очень добр и в отношении животных.
|


