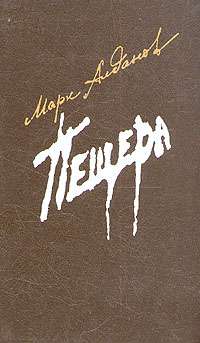
 Увеличить Увеличить |
XIX
Для Клервилля наступило тяжелое время. Ему по природе было
несвойственно раздраженное состояние. Теперь он из этого состояния почти не
выходил и вдобавок должен был тщательно скрывать свои чувства, приблизительно
выражавшиеся словами: «Однако все это начинает очень мне надоедать!..»
Полусознательное значение «однако» сводилось к тому, что
Муся, в конце концов, ни в чем или почти ни в чем не виновата. Что такое было
«все это», Клервилль не мог бы сказать определенно. Сюда входили и беременность
Муси, и ее мать, и ее друзья, — русские, французские, румынские, —
мальчики, без причины исчезающие неизвестно куда, девочки, покушающиеся на
самоубийство неизвестно почему. Исчезновение Вити, попытка самоубийства Жюльетт
вызвали у Клервилля, несмотря на его доброту, не сожаление, а злобу. Муся
внесла в его жизнь fait divers[244], —
самое неприятное и неприличное из всего, что могло случиться с порядочным
человеком.
«Но ведь это только последняя капля, переполнившая
чашу», — говорил себе он, с тяжелым чувством оглядываясь на последний год
своей жизни. Клервилль не любил самоанализа, — видел и в самоанализе
русское влияние. В последнее время это влияние становилось все более ему
неприятным: здесь семья и окружение Кременецких странным образом смешивались с
революцией, с Петербургскими островами, с «Бродячей собакой», с Достоевским. Он
называл все это «экзотикой», с удивлением вспоминая, как нравилась ему экзотика
в ту пору, когда он был влюблен в Мусю. «Да, все это было самообманом: ложная
значительность пустых разговоров, вера в глубину балалаечных оркестров и
балалаечных чувств…» Обычное в кругу Муси Противопоставление английской
элементарности и русской сложности казалось ему поверхностным, если не просто
глупым. «Видит Бог, я не страдаю манией величия, но, право, я, как человек,
сложнее, чем она и чем большинство ее друзей».
Он сознавал теперь ясно свою непоправимую ошибку. Еще в
Довилле, до происшествий с друзьями Муси, жизнь с женой, разговоры с ней стали
чрезвычайно тяготить Клервилля, несмотря на весь его, казалось, неисчерпаемый,
запас благодушия, оптимизма, savoir vivre[245].
Он знал наперед каждое слово и в своих, и в ее речах; но говорить и слушать эти
слова было совершенно необходимо. Обряд был разработан точно. При всякой
встрече с женой он заботливо осведомлялся об ее здоровья, спрашивал, как она
провела два часа их разлуки, была ли в Казино, рассказывал, что делал он сам,
сообщал новости из газет, и, расставшись снова часа на два, целовал Мусю в
волосы и просил твердо помнить о своем положении — не делать ничего
неблагоразумного. Это было не слишком утомительно. Но однажды, к концу обряда,
Клервилль поймал себя на мысли, что больше этого выдержать не может.
В Париж они выехали экстренно. Утром, на пляже, Елена
Федоровна взволнованно сообщила Мусе, что Леони вдруг уехала в Париж, не простившись,
ничего не объяснив: ее вызвал по телефону Мишель. Объяснения так и не
последовало. Дня через два из Парижа вызвали по телефону Мусю. Мишель кратко
сообщил об исчезновении Вити — и повесил трубку при первом ее восклицании
ужаса.
Началась экзотика: нервы, суматоха. Клервилль успокаивал
жену, — ничего страшного с Витей случиться не могло: ушел и, по всей
вероятности, скоро вернется; а если в самом деле уехал в белую армию, как она
предполагает, то это его право, и, быть может, его долг. Муся посмотрела на
мужа почти с ненавистью. Ему это доставило удовольствие, — он сам
изумился. Клервилль согласился с женой, что ей необходимо вернуться в Париж и
что он должен ее сопровождать. Согласился, стиснув зубы, уехать немедленно. Он
успел только забежать на поло, проститься с лошадьми, сделать о них
распоряжения.
Не пожелала оставаться одна на море и Елена
Федоровна, — ее терзало любопытство: что такое случилось в доме Георгеску?
К тому же, погода резко изменилась, жаркие дни кончились. Елена Федоровна
заявила, что тоже покидает Довилль. Она, видимо, надеялась, что Клервилли
предложат ей место в своем автомобиле. Они однако этого не сделали, и их
нелюбезность — она говорила: хамство — вызвала у нее слезы бешенства.
Елена Федоровна отлично знала, что ее считают злой; она
допускала даже, что в этом мнении может быть некоторая доля правды. Но люди,
бранившие ее, не понимали и не желали понять, что она одинокая старящаяся
женщина, что у нее никого нет, что небольшие деньги ее тают с каждым днем. У
Муси был муж с миллионами (она очень преувеличивала новое богатство Клервилля).
У Жюльетт были мать, брат, какие-то родные, какое-то имущество в Румынии. У нее
же никакой опоры в жизни не было. Пока деньги оставались, с ней еще
разговаривали как с равной — и то не совсем, а почти как с равной. Но если
растают последние гроши, что тогда? Об этом она не могла подумать без ужаса и
все больше приходила к мысли, что только деньги имеют значение в жизни, хоть
почему-то люди считают нужным притворяться, будто есть еще что-то другое. И
Муся с ее шальной роскошью, Жюльетт с ее уверенностью в своем умственном
превосходстве, цепкая, ловкая Леони с ее видом кроткого терпения, с наигранной
покорностью воле Божьей, вызывали у баронессы Стериан чрезвычайное раздражение,
которого она по мере сил не проявляла только потому, что совсем поссориться с
ними было бы ей тяжело и невыгодно. Она знала, что всем говорит неприятности,
но знала также, что по природе своей не может не говорить их, — и самой
себе объясняла, что по крайней мере она-то не лицемерит; другие же только
прикрывают вежливостью, любезностью свой совершенный эгоизм, бесчувственность,
злобу. Особенно раздражало ее теперь воспоминание о мужчинах, которые были с
ней близки. Их, от Фишера до Загряцкого и Нещеретова (Витю она не считала), было
много, и все они были ей одинаково гадки. «Только Мишель настоящий человек!..»
Елена Федоровна бледнела, когда молодой Георгеску говорил о своем возможном
отъезде в Румынию для политической работы.
Вернувшись в Париж по железной дороге, Елена Федоровна
тотчас все о Жюльетт узнала, как ни старались Леони и Мишель скрыть семейную
тайну. Никакой опасности больше не было. Елена Федоровна, закатывая глаза, всем
рассказывала под строжайшим секретом, что полоумная девчонка отравилась
вероналом из-за Серизье и что спасло ее лишь промывание желудка: «Слава Богу,
что Мишель не растерялся, — если б врач пришел одним часом позже, она
наверное погибла бы! И какое еще счастье, что дело не попало в газеты!»
Несмотря на свое джентльменское отсутствие интереса к чужой психологии,
Клервилль ясно видел, что эта румынская баронесса, которую он всегда терпеть не
мог, чрезвычайно рада унижению Жюльетт, скандалу, промыванию желудка, и была бы
совсем счастлива, если б дело попало в газеты.
Но ему было не до Елены Федоровны. Мусю оба происшествия
потрясли необыкновенно. Она плакала целые дни. Беда с Жюльетт, по крайней мере,
была понятна, не вызывала у Муси угрызения совести и не требовала с ее стороны
никаких действий. Но относительно Вити она терялась в догадках. Если уехал в армию,
почему не оставил письма, хотя бы записки в несколько слов? Муся не
чувствовала, а знала , что дело связано с ней; но как связано, она
понять не могла. Клервилль нехотя предложил обратиться к Серизье за
рекомендательным письмом в префектуру. Муся поспешно отклонила предложение,
сказав, что это неудобно из-за Георгеску; муж тотчас с ней согласился. Вместе с
тем она требовала, чтобы на ноги была поднята вся французская полиция.
Клервилль делал что мог, всюду сопровождал жену, ездил по ее поручениям.
Толку выходило немного. В участке, куда они бросились первым
делом, комиссар внимательно выслушал рассказ Муси, осведомился, сколько лет
молодому человеку, и затем саркастически-гробовым тоном заявил, что, к
несчастию, никакого сомнения быть не может: конечно, девятнадцатилетнее дитя
убито, ограблено и брошено в Сену, — все доказательства налицо: уж если
оно ушло из дому и не возвращается четыре дня! Не только Муся растерялась, но и
Клервилль несколько оторопел. Комиссар, фыркая, что-то куда-то записал, —
было достаточно ясно, что он не спать ночей из-за этого дела не станет. Позднее
Клервилль немало веселился, вспоминая физиономию, слова, интонацию голоса
комиссара.
Ничего не дала и беготня по другим инстанциям, хотя везде
Мусю вежливо выслушивали, записывали ее заявление в ведомость и обещали тотчас
дать знать, если что выяснится.
Витя пропал без вести.
Клервилль должен был проводить с женой почти весь
день, — нельзя было ссылаться и на службу: срок его отпуска еще не истек.
Тамара Матвеевна, как ему казалось, воспользовалась случаем и от них не
выходила. Она раз десять рассказывала со всеми подробностями свой разговор с
Витей, — ей сразу показалось, что он какой-то странный!.. Высказывались о
бегстве Вити (так же, как о причинах поступка Жюльетт) самые разнообразные
догадки. Спорили обычно Тамара Матвеевна и Елена Федоровна, — как спорит
большинство людей: каждая утверждала свое потому, что другая утверждала
противоположное. Клервилль чувствовал, что Витя ему осточертел. Ему было
решительно все равно, куда бежал этот нелепый юноша, и зачем бежал, и что с ним
будет: лишь бы только не возвращался возможно дольше. Но высказать это было,
очевидно, неудобно. Напротив, требовалось поддерживать разговор, придумывать
свои догадки, обсуждать чужие, умолять Мусю не волноваться, — волнением
делу не поможешь. Скрытое раздражение Клервилля все росло.
Зато от Вити же, значительно позднее, пришло и спасение —
или по крайней мере передышка. Писем от него не было, полиция ничего не
выяснила, Муся была неутешна и отравляла жизнь мужу. Объявила она ему —
совершенно некстати — и то, что не хочет иметь ребенка: «Он родился бы в такой
обстановке сумасшедшим!» — «Это вполне возможно», — подумал с негодованием
Клервилль. Хоть он и сам не слишком хотел иметь детей, все же с этого дня отчуждение
между ними еще усилилось. Муся не была противна Клервиллю, но почти все в ней и
в близких ей людях раздражало его чрезвычайно.
Однажды, слушая в сотый раз, с тихой злобой, жалобы Муси на
Мишеля, на себя, на полицию, Клервилль сказал, что английское военное ведомство
теснее связано с белыми, чем французское: ему, наверное, гораздо легче навести
справки. Сказал он это без всякой затаенной мысли, — и вдруг его так и
осенило. Муся встрепенулась. — «Отчего же ты молчал до сих пор? Надо сейчас
же принять все меры. Ведь мистер Блэквуд давно уехал из Довилля в Лондон, надо
попросить, чтоб он похлопотал!» — «Отличная мысль, — подтвердил
Клервилль, — у него большие связи. Вот только захочет ли он? Да и адреса
его я не знаю. Разве написать наудачу в посольство?» — «Не написать, а
телеграфировать!» — «Куда же? Да в телеграмме всего этого не изложишь, даже в
письме трудно. Разумеется, и у меня нашлись бы в Лондоне связи…» — «Но отчего
же ты молчал До сих пор?! Умоляю тебя, напиши сейчас же всем, кому только можно!
А может быть, ты сам туда поедешь?» — «Поехать?» — раздумчиво спросил
Клервилль, — «конечно, такие дела не устраиваются письмами, надо хлопотать
лично». С видом готовности на всякие жертвы, Клервилль согласился завтра же
выехать в Лондон.
Несмотря на его жертвенность, перед самым отъездом вышла
размолвка, чуть только не ссора. Клервилль, допивая утреннее кофе, с энергичным
видом излагал свой план Действий: он первым делом бросится в министерство, в
Intelligence Service, в штаб, затем разыщет мистера Блэквуда и попросит его
поговорить с министром. Муся слушала мужа недоброжелательно: его рвение
показалось ей подозрительным. Она не очень удачно придралась к тому, что первым
пришло ей в голову. — «Все-таки это странно, что в вашей Англии англичане
должны обращаться за протекцией к американцу!» — «К сожалению, я с этим
министром не знаком». — «Ни с этим, ни с другими. Но я не думала, что
власть денег в Англии так велика». — «Я собственно не вижу, при чем тут
власть денег? Англия в деньгах мистера Блэквуда не нуждается, но в некоторых
случаях иностранцу бывает легче похлопотать: за ним дипломатическая
поддержка». — «Однако если б этот иностранец был не американский
миллиардер, а, например, сербский пастух, то было бы иначе». — «Возможно.
Действительно, с миллиардерами везде больше считаются, чем с пастухами». —
«Я именно это и говорю». — «Поздравляю с открытием». — Клервилль
хотел было добавить: «Впрочем, если вам не нравятся англичане и английские
порядки, то…» Он однако сдержался; да и сам не знал, что собственно последует
за «то». Ссориться теперь, перед самым отъездом, было бы бессмысленно. Он
улыбнулся, посмотрел на часы, по телефону попросил швейцара подозвать
автомобиль и приступил к исполнению прощального обряда. Вместо обыкновенного
поцелуя полагался поцелуй длинный, Клервилль мысленно называл его «экранным».
Муся, по просьбе мужа, на вокзал его не провожала. Ей и тяжело было, что он
уезжает: он был надежной опорой, — и вместе с тем она почувствовала
облегчение после его отъезда.
|


