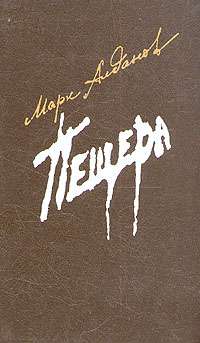
 Увеличить Увеличить |
XXV
Мусе самой было странно, что она так волнуется: никакой
причины для этого не было. Бросив в зеркало последний, окончательный взгляд,
она вышла на порог комнаты, хоть этого не следовало делать. По коридору шел
Браун. «Кажется, у меня мрачные предчувствия , как в мелодраме «Кривого
Зеркала», — подумала она с напряженной насмешкой над собою, и,
спокойно-приветливо улыбаясь, протянула ему руку. Улыбка Татьяны Онегину на
великосветском балу не вышла. Муся чувствовала, что лицо у нее выражает
растерянность, чуть только не испуг.
— Как я рада, Александр Михайлович! — сказала она.
В голосе ее прозвучали те самые модуляции, которыми когда-то в Петербурге она
пользовалась в разговоре то с ним, то с Клервиллем. Но и модуляции не совсем
вышли, да и не соответствовали печальному делу, бывшему причиной его визита.
Муся попробовала перейти на грустно-озабоченный тон — и вдруг совершенно
растерялась.
— …Вам здесь в кресле будет удобно? Это мое любимое,
но, так и быть, я его вам отдаю, я сяду на диван… Не слишком близко от
радиатора? Как быстро наступили холода, неправда ли? Но вы не беспокойтесь, у
нас в гостинице топят недурно, не то, что в Англии, где я прямо мерзла… Я
думала, здесь будет приятнее, чем внизу, в холле… Но как мило, что вы зашли. Я
не хотела вас беспокоить, пыталась к вам дозвониться сегодня утром, но…
— Утром у меня телефон не работает.
— То есть, вы были дома? Нет, я так и думала, что вы
дома и не хотите подойти к аппарату! Нет, какая низость! — воскликнула
, смеясь, Муся и почувствовала, что не надо было ни восклицать, ни даже просто
говорить «какая низость!», — он не улыбнулся и пристально на нее глядел.
После этих слов нельзя было сразу перейти к исчезновению Вити. Муся с ужасом и
наслаждением чувствовала, что не владеет собой, что теперь с разбегу
остановиться очень трудно. Ей казалось, что он отлично это видит, что он молчит
нарочно, — быть может, издевается.
Она взяла трубку телефонного аппарата и заказала чай, очень
пространно, чуть не с модуляциями, объясняя все лакею. Браун сбоку, со своего
кресла, все так же пристально смотрел на нее. «У него блестят глаза, обычно они
холодные, я таким его никогда не видала!» — замирая, думала Муся, — «Et le
citron, n’oubliez pas le citron»[255], —
пропела она. — «Oui, madame»[256], —
недоумевая сказал лакей. С трудом сдерживая бег, как прошедшая мимо столба
скаковая лошадь, Муся произнесла: «Mais surtout faites vite, je vous prie, nous
attentions»[257], —
повесила трубку с сияющей улыбкой, как бы означавшей: «вот вы увидите, как нам
будет здесь уютно». — Сейчас, сейчас подадут! — сообщила она Брауну,
точно он несколько раз с нетерпением требовал чаю. — И вы знаете, у моего
мужа есть коньяк, какой-то необыкновенный, замечательный коньяк, старше нас с
вами вместе взятых! Вивиан достал несколько бутылок у Корселле. Только где он?
Если б я знала, где он? — Муся приложила руки к вискам, точно и в самом
деле не знала, где у них находится коньяк. — Ах, да!.. Одну минуту…
Легкой саввинской походкой она вышла в спальную и
остановилась за дверью, почти задыхаясь. «Что со мной? Я, право, с ума сошла!
Господи, неужели сегодня!.. Ну, будь что будет!..» Муся направилась было назад,
у дверей вспомнила о коньяке, вернулась, достала бутылку и вышла в гостиную.
— Слава Богу, нашла! Я боялась, вдруг Вивиан увез ключ
от своего шкафа. Нет, коньяк есть, к счастью для вас! Впрочем, я тоже выпью
рюмку, очень холодно. Кажется, вы знаете толк в винах не хуже, чем Вивиан?.. Но
как же вы, Александр Михайлович, что же вы?
— Ничего, благодарю вас.
— Я вас сто лет не видала. — Ее немного успокоило,
что он все-таки говорит. — Я так вам рада и так благодарна, что вы зашли.
Сначала о деле…
Она принялась необыкновенно горячо рассказывать о Вите.
Самый характер рассказа у Муси зависел от звука ее голоса, — как у писателей
иногда работа зависит от пера, от бумаги, от чернил. Голос у нее был
прекрасный, быть может чуть срывающийся на верхних нотах, но Муся и из этого
умела извлекать пользу, — так старинные мастера расписных стекол лучших
своих эффектов достигали благодаря несовершенствам их стекла. Браун слушал и
пил коньяк, не облегчая ей рассказа ни вопросами, ни возгласами удивления.
— …И вот вам их полиция! У нас бы мальчишку нашли в
двадцать четыре часа, а мы еще ругали наши порядки. Но вы себе и не
представляете, как я волнуюсь! Я просто не нахожу места… — Вошел лакей с
подносом. — Posez cela ici. Merci…[258] —
Вы ведь знаете, Витя мне все равно что родной, я с ума схожу… Вы, может быть,
предпочитаете пить чай из стакана?
— Мне все равно.
— Да, вот их полиция… Но ваше мнение какое, Александр
Михайлович?
— Ничего не могу вам сказать.
— У вас и предположений нет никаких? Вам Витя тогда
ничего не говорил, что хочет куда-то уехать?
— Он просил меня найти для него в Париже работу.
— Работу? Да, это у него была idee fixe! Я хотела,
чтобы он учился, не думая о деньгах, но он все приставал с работой. Я, наконец,
достала или почти достала для него работу в одном кинематографическом деле.
— Помнится, он говорил мне и об этом, но без восторгу
Упомянул и о том, что хотел бы уехать в армию.
— Ах, вот, значит упомянул? Я так и думала! В армию?
Как же именно он сказал? Он не сказал, в какую армию? Вообще никаких
подробностей не сообщил вам?
— Нет. Сказал довольно неопределенно. Мне казалось, что
и не очень серьезно это говорится.
— Как мы все относительно него заблуждались! Но теперь
я почти не сомневаюсь, что он уехал в армию… Я вам положила один кусок,
Александр Михайлович, я помню по Петербургу, что вы пьете с одним куском.
Помните нашу коммуну?.. То, что вы мне сообщили, чрезвычайно важно, —
говорила быстро Муся, — чрезвычайно важно. Теперь мне ясно: он уехал в
армию.
— Какие же у вас были другие предположения?
Самоубийство?
— Что вы! — вскрикнула Муся испуганно. — Что
вы, Александр Михайлович! Почему самоубийство?
— Или несчастный случай?
— Это уж скорее. Но, к счастью, и об этом нет
речи, — Муся постучала по дереву: все путала приметы и средства против
них, так же, как Тамара Матвеевна. — Ведь если б он, например, попал под
автомобиль, мы давно знали бы: ведь все-таки подняли на ноги всю полицию.
— Да, конечно.
— Как вы меня напугали! Налейте, пожалуйста, и мне
коньяку… Все-таки почему вы упомянули о самоубийстве? — Она опять
постучала по дереву с искренним ужасом. — Из-за чего Витя мог бы покончить
с собой?
— Из-за любви.
— Разве он был влюблен? В кого?
— В вас, конечно.
Муся изумленно на него смотрела.
— Почему вы думаете? Он вам говорил?
Браун усмехнулся.
— Напротив, так старательно замалчивал еще в
Петербурге, что это было вернее всяких исповедей.
— Все-таки странно, что у вас было такое
предположение, — сказала задумчиво Муся, не подтверждая и не опровергая.
— Это предположение довольно естественно. Я вдобавок и
не слепой, хоть не обо всем вообще говорю из того, что вижу, — сказал
Браун.
В голосе его Мусе послышалась не то насмешка, не то угроза.
— Да, конечно, у мальчиков их секреты белыми нитками
шиты.
— Не только у мальчиков.
Они помолчали.
— Не буду утверждать, что вы ошиблись, Александр
Михайлович, но, я думаю, в этом чувстве Вити ничего серьезного не было, —
сказала Муся и почувствовала, что довольно говорить о Вите.
Браун вынул портсигар.
— Вы позволите? Ваш муж и не подозревает… — Он закурил
папиросу. Муся тревожно ждала. — И не подозревает, что я истребляю его
заветную бутылку. Что он поделывает?
— Ничего особенного. Он сегодня уехал в Лондон.
— Да, вы об этом мне сообщили.
— Уехал в Лондон все по тому же делу Вити. — Муся
подумала, что, кажется, он истолковал ее письмо именно так, как она опасалась:
вульгарно. Это ее раздражило. «И в тоне его сегодня есть что-то ему несвойственное,
„галантерейное“, — говорил Никонов. Зачем он сказал „заветную бутылку“? Во
всяком случае пусть теперь поговорит он, мне монолог надоел…» Браун все смотрел
на нее в упор, чуть наклонив голову. «Несколько странная манера! И глаза у него
так блестят… Что, если он морфинист!» — вдруг мелькнула у Муси дикая мысль.
Почему-то она от Брауна всегда ждала самых странных вещей, — вроде как
туристы, посещая средневековый замок, непременно ждут «комнаты пыток» или
отверстий, из которых «на осаждавших лили кипящую смолу». — Еще рюмку
коньяку, Александр Михайлович? Очень холодно. Ничего мне так не жаль, как наших
русских печей. Да, я выпью тоже… Коньяк в самом деле прекрасный… А знаете,
Александр Михайлович, вы сегодня не совсем такой, как всегда.
Он улыбнулся.
— Правда, мы давно с вами не встречались. Надеюсь,
ничего не случилось?.. Извините мою нескромность, но, право, мне кажется…
— Вы не ошибаетесь, — сказал Браун. — Кое-что
случилось, но это никому, кроме меня, не интересно. Я получил первое
предостережение.
— Как вы говорите?
— Не интересно, — упрямо повторил Браун. —
Кроме того, я кончил или почти кончил книгу, над которой работал много лет.
— Книгу? Разве вы пишете книги?
— Одну написал. Она называется «Ключ».
— «Ключ»? Это книга по химии?
— Нет, это философская книга. Книга счетов.
— Поздравляю вас. Вы так меня удивили, Александр
Михайлович… Философская книга? Я что-нибудь пойму?
— Ничего решительно.
— Благодарю вас!
— Впрочем, может быть поймете «новеллу», которую я
вставил в свою книгу. Есть такое смешное, старенькое слово «новелла», я его
очень люблю, так и назвал. Новелла у меня с действием, с фабулой, это вы
прочтете.
— Но разве в философские книги вставляются новеллы с
фабулой?
— Фабула никогда не мешает. Недаром почти во всех
создателях религиозных учений сидел Александр Дюма. Да и Священное Писание не
завоевало бы мира, если б в нем не было и авантюрного романа.
Это замечание показалось Мусе и неприличным, и не очень
умным. Она ничего не ответила, — пожалела, что он это. сказал.
— Не думайте, однако, что я вставил новеллу для
увеличения тиража книги. Но так легче было пояснить мои мысли.
— Что же, это новелла из современной жизни?
— Нет, из эпохи Тридцатилетней войны. Символическая и,
разумеется, стилизованная, притом в разных стилях. Пишу, как хочу, хоть под
Загоскина. У всякого барона своя фантазия.
— Да ведь вы барон не в литературе.
— И ни в чем другом. Барон, как всякий независимый
человек. Стилей же несколько потому, что я писал в разное время: начал эту
новеллу очень давно, в добрую минуту… Тогда даже документы собирал, — с
одного старого документа и началось… Это гороскоп Валленштейна, составленный
великим астрономом Кеплером.
— Валленштейна? Того, что у Шиллера? Ах, как интересно!
Я почему-то уверена, что вы Валленштейна писали с себя… Только не сердитесь,
ради Бога.
— Ну, а потом много изменилось, вот получил и
предостережение… Может быть, во мне и пропал романист: Гоголь таких людей, как
я, называл «душезнателями».
— Никогда не поздно переменить карьеру.
— Мне поздновато… Называется моя новелла «Деверу».
— Деверу? Что это такое? Впрочем, я прочту… Я все-таки
надеюсь, что вы мне дадите вашу книгу, когда она выйдет. Вдруг и я, дура,
что-нибудь пойму. Во всяком случае, я увижу, какой ваш violon d’Ingres[259]. Я представляла себе его
иным.
— Каким же? — спросил Браун без большого интереса.
— Не знаю, как объяснять, и не знаю, объяснять
ли. — «От него станется, что он скажет: и не объясняйте, не надо», —
подумала она и поспешно продолжала. — Кажется, философы это называют миром
подсознательного…
— Мир В.
— Что? Я не поняла. Мир В?.. Ну, да все равно. Но я все
больше прихожу к мысли, что самые острые чувства, мысли, желания человека — те,
в которых он сам себе не сознается.
— Отличие обыкновенных людей от необыкновенных отчасти
в том, что обыкновенные могут ясно изложить, какой у них — в кавычках — «идеал
счастья».
— А необыкновенные не могут? То есть попросту не знают
сами, чего хотят?
— Попросту это именно так.
— В таком случае, — сказала, обидевшись,
Муся, — я думаю… — Она не докончила фразы: глаза Брауна поразили ее
выражением злобы, усталости, тоски. «Кажется, он не совсем здоров…» И опять
Мусе пришло в голову: «Что, если он морфинист или сумасшедший?.. Во всяком
случае ничего не будет, и так лучше…» Она предпочла засмеяться.
— Окончание книги, по-видимому, вас не привело в очень
хорошее настроение. Но все-таки что такое ваш «Ключ»? Это философская
система? — спросила Муся, тоже с легкой насмешкой в голосе.
— Зачем такие слова? Я не задавался целью ни создавать
семьсот шестьдесят пятую философскую систему, ни писать сто восемьдесят
четвертую книгу о Канте. Просто записал свои мысли о жизни, как собственно
должен бы делать каждый человек перед уходом… Я хочу сказать: на старости лет.
— Да это кокетство. Какой вы старик! — сказала
Муся и подумала, что, верно, тысячи женщин говорили мужчинам эту самую
фразу. — Ради Бога, не будем вести похоронных разговоров. Скажите лучше,
какие теперь ваши планы? — Она сама не знала, о чем спрашивает. — То
есть, теперь после окончания вашей книги, Ведь вы остаетесь в Париже?
— Да, остаюсь.
— Вы вообще как думаете: долго нам жить в эмиграции?
— Совершенно не знаю. Это зависит от миллиона
случайностей.
— А «законы истории»? — спросила Муся, подчеркивая
шутливой интонацией ученые слова.
— Какие уж там законы истории, — эту шутку
выдумали историки. Поверьте, все в мире определяется случаем. Ведь и Россия
погибла оттого, что, по случайности, не нашлось пять — шесть решительных людей,
готовых пожертвовать собой в атмосфере общего равнодушия — людям «общественное
сочувствие» нужно и для того, чтобы идти на смерть… Разумеется, одной
решительности было мало: надо было иметь еще и голову на плечах.
«Да вот вы же в Петербурге пробовали, с Витей», —
хотела сказать Муся, но не сказала.
— Что же мы тут будем делать?
— То, что делаем уже сейчас. Ходить на митинги со стыдливой
любовью к России, пережевывать глубины Достоевского: «Я… я буду
веровать в Бога», — пролепетал в исступлении Шатов…» Зарабатывать хлеб как
умеем… Станем бедными родственничками Европы, — дальними, очень дальними,
такими дальними, что почти даже и не родственники. В душе потеряем веру в свою
великодержавность, которую прежде не любили и даже не замечали. А главное будем
голодать, это будет основное занятие…
— Вот чисто русская манера: вечно себя и все свое
ругать.
— Все нации о себе утверждают то же самое и видят в
этом свою особенность. Даже французы: «Cette manie que nous avons de nous
dénigrer nous-mêmes…»[260] В
действительности, каждая нация по уши в себя влюблена.
— Ну, хорошо, хорошо… Как можно жить одной иронией,
ведь это так мертво! Я политикой не интересуюсь, но, поверьте, я сердцем
чувствую: у нас, у эмигрантов, есть задача, и большая.
— Я этого и не отрицаю, — уж я-то всего менее живу
иронией. Если дело затянется, то наша задача будет даже велика
непосильно, — лишь бы только мы ее выполнили, тогда от иронии ничего не
останется… Может быть, та Россия политически и спасется, но морально
она обречена на гибель. Впервые, кажется, в истории появилась такая власть,
которая вполне способна всех обратить в подлецов. Отсюда и задача эмиграции:
спасти остатки русской духовной культуры. У Вергилия в «Энеиде» есть, помнится,
такая сцена: Троя гибнет, до прихода врагов остаются часы или минуты, Эней
колеблется: оставаться? бежать? К нему является тень Гектора и приказывает: «Беги!
Тебе вручаются Троей святыни ее и пенаты!..» «Sacra suosque tibi commendat
Troia penates». Это отнюдь не значит, что я предлагаю «подвижничество», о, нет!
Быть таким же народом, как французский или английский, таким же, каким был
русский, — и только.
— Все-таки, тут у вас, кажется, противоречие…
— Не думаю. А впрочем, оставляю за собой право и на
противоречие. Я живой человек, а не таблица умножения.
— Живой, но мрачный. На конкурсе мрачных людей вы могли
бы получить первый приз. Когда вы выпустите книгу, придумайте для себя
подходящий псевдоним: «Роберт-дьявол», например, или что-нибудь в этом роде, а?
Впрочем, нет, не надо псевдонима! Мне нравится ваша фамилия, хоть она странная:
Браун. И ваше имя вам идет! Я не очень люблю: «Александр», но это имя идет вам.
Ну, вот, как папа может называться Пий, Лев, Бенедикт, но называться Эрнест или
Адольф ему было бы неудобно, правда? — говорила Муся, чувствуя, что снова
начинает нести чушь. — Может быть, впрочем, после «Ключа» ваше имя так
прогремит, что его будут произносить без prénom[261], — вот как когда говорят
Толстой-просто, то имеют в виду Льва Николаевича. Но заранее вас предупреждаю,
я вас читать не буду: я очень люблю жизнь, да, да, очень!
— Тогда непременно читайте мрачных писателей. Помните,
что писатель обычно достигает результатов как раз обратных тем, к которым он
стремился. Вы упомянули о Толстом, — в «Анне Карениной» героиня в конце
бросается под поезд, один герой подумывает о самоубийстве, другой идет на свое
турецкое самоубийство, а вся книга так и дышит страстной любовью к жизни.
Напротив, в «Воскресении» или там в сказочках все умиляются, очищаются,
просветляются, но читателю хочется повеситься от тоски.
— Это неверно, — смеясь, сказала Муся. Коньяк
успел ударить ей в голову. Ей было и жутко, и весело. В этом разговоре об умном
наедине с Брауном, в легком кружении головы, было то самое, что она любила
больше всего на свете. «Кажется, я пьяна», — соображала Муся, стараясь
следить за его словами: надо было вставлять ответные замечания. «Да, это необыкновенный
коньяк, ведь я выпила всего две рюмки. А вот он хлещет коньяк как воду, и это
очень мило! Он раньше сказал что-то неприятное, но я не помню что, и мне все
равно: я люблю его…» — Это не-верно… Налейте мне еще рюмку.
— Вы догадываетесь, что я на громкую славу не
рассчитываю, — продолжал Браун. — Да и не очень ее жажду. Книг,
которые нравились бы очень многим людям, нет и быть не может; есть только
книги, которых очень многие люди не смеют ругать. Этого писателю надо ждать
довольно долго, мне не дождаться. Да о моей книге и говорить не станут: нет
причины. Писатели и вообще завоевывают мир не тем лучшим, тонким или мудрым,
что в них было, а тем, что, на придачу, было в них грубого, общедоступного,
иногда пошлого. Гоголь был большой, очень большой писатель, но всероссийскую
известность ему создало обличение взяточников.
— Ну, хорошо, не завоевывайте мира, так и быть, —
сказала Муся, полузакрыв глаза, приложив руки к щекам. — Но… Я забыла, что
я хотела сказать… Но ведь и вы эмигрант. На что же вы-то ориентируетесь? —
опять шутливо подчеркнула она ученое слово, которое умным людям в разговоре
упоминать не надо.
— Я? На Пэр-Лашэз.
— Полноте — вскрикнула Муся. — Мы все умрем, это
достаточно известно, но ничего другого нам не предлагают. Что ж об этом
говорить?
— Да я об этом и не говорю, вам послышалось.
— Увидите, сколько у вас еще будет хорошего в жизни!
— Принимаю к сведению. Но в общем с длиннотами была
шутка, с длиннотами, — угрюмо сказал он, и опять что-то оперное, банальное
показалось в его словах Мусе. — Я как престарелый Людовик XIV: «je ne
suis plus arausable»[262], —
простите сравнение, оно ведь условно… Жизнь груба… Ах, как груба жизнь! По
высшей справедливости, я собственно должен впасть в гатизм[263]: слишком верил когда-то в разум. Значит,
мне полагалось бы закончить дни кретином, так чтобы меня кормили с ложечки…
— Господи! Александр Михайлович, я терпеть не могу
таких разговоров! — сказала Муся умоляющим голосом, совершенно так, как
говорила ее мать, когда Семен Исидорович упоминал о старухе с косой. Она сразу
проглотила всю рюмку коньяку. Голова у Муси закружилась. «Он все точно
прицеливается… Ну, кто кого пересмотрит?..» — Браун внимательно в нее вгляделся
и придвинул свое кресло к дивану. Муся слабо засмеялась и пыталась
отодвинуться, но диван стоял у стены. «Григорий Иванович говорил: если вас,
Мусенька, немного напоить, то с вами любой предприимчивый человек может сделать
что угодно… — вспомнила она. — Ну, это мы еще посмотрим! А впрочем…» — Вот
что… Вы мне лучше расскажите, как вы тогда бежали из Петербурга.
Он разочарованно вздохнул, признав ее недостаточно пьяной, и
налил еще коньяку в рюмки. Лицо его становилось все бледнее.
— Ничего не было интересного.
— Ну как не было? Ведь вы с Федосьевым бежали?
— Да, с Федосьевым.
— А правда, что он стал католическим монахом, чуть
только не уходит в какую-то пещеру?
— Правда.
— Вы с ним после того встречались?
— Мы расстались тогда же в Стокгольме: он поехал в
Берлин, а я в Париж. Сначала изредка переписывались, хотели даже встретиться,
но не вышло. Ни Магомет к горе, ни гора к Магомету, разве встретятся
когда-нибудь Магомет с горой на полдороге. У него или, вернее, для него одна
правда, для меня другая… Для вас третья, для Вити четвертая. Чем бы дитя ни
тешилось, лишь бы не плакало. К сожалению, плачет оно почти всегда.
— Но как вы объясняете поступок Федосьева?
— Да ведь его правда из лучших… Но много было,
вероятно, причин. Главная, быть может, та, что делать ему было решительно
нечего. На юге России его не хотели. Не в эмигрантские же бирюльки играть. А он
человек очень деятельный. Католическая церковь — большая сила, из церквей
единственная или, во всяком случае, самая большая. Одна из главных в наше время
сил порядка… Вдобавок, и жить ему было нечем.
— Нехорошо, Александр Михайлович, извините меня,
нехорошо так говорить!
— Когда человеку чего-либо очень хочется, он ищет
союзников где угодно. Генрих VIII, лишь бы законно развестись с
осточертевшей ему женой, обратился за богословской консультацией к докторам
синагоги. Людовик XI от страха смерти послал за каким-то амулетом к
султану… Федосьеву и жизнь очень надоела, и смерти он, вероятно, боялся
чрезвычайно. Вот он и нашел срединный выход. К тому же церковь сейчас —
единственное не обезображенное место в мире. «Вдруг здесь спасение? Дай,
ухвачусь…» Впрочем, не знаю, зачем он переменил веру, не знаю. Люди меняют
религию по самым разным причинам, иногда даже по искреннему убеждению.
Единственное, чему я никогда не поверю: будто Федосьев ушел в монастырь из-за
угрызений совести , — я от кого-то слышал и такое объяснение… Федосьев
был слишком поэтический человек для своей должности, художественная натура в
полиции. Что ж, и это возможно, в виде исключения из правила несовместимости:
вот как женщина, какая-нибудь принцесса, может быть шефом полка и носить
военный мундир… Таких других в их кругу не было… Не было в наше время, были
прежде, когда-то. В самом его уходе есть нечто летописное — или хоть
бессознательная подделка под это, как в «Князе Серебряном». Но почему
католичество? Он, помнится, говорил мне, что мать его была полькой… А вам кто
сказал, что Федосьев удалился в пещеру?
— Госпожа Фишер. — Браун вдруг изменился в
лице. — Я хочу сказать, баронесса Стериан, — пояснила Муся. — Вы
разве ее знаете?
— Нет. Кто это?
— Помните, перед самой революцией в Петербурге нашумело
дело Фишера: не то он был убит, не то покончил с собой, я точно теперь уж и не
помню, хоть мой покойный отец много нам рассказывал: он должен был выступать по
этому делу. Но папа за столом всегда говорил о каких-то процессах, и у меня все
в памяти спуталось… Так вот вдова этого Фишера вышла потом замуж за какого-то
экзотического авантюриста, барона Стериана, не то теперь умершего, не то
пропадающего неизвестно где.
— Какое же отношение она имеет к Федосьеву?
— Никакого, но она вообще все о всех знает. О Федосьеве
ей, кажется, сообщили в комитете или посольстве.
Браун налил себе еще рюмку коньяку. Бутылка была опорожнена
больше, чем наполовину.
— Ну, а что же означает: «я получил первое
предостережение»? — спросила Муся.
— Это не ваше дело, — ответил Браун.
|


