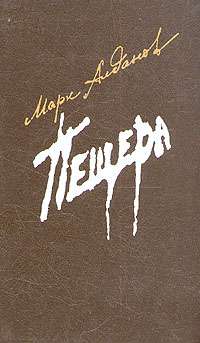
 Увеличить Увеличить |
XXXIV
Черный кран вцепился в тележку, медленно поднял ее и потащил
куда-то вдаль. Сбоку дрогнула и передвинулась на одно деленье красная огненная
стрелка огромных часов. Браун, подняв воротник пальто, медленно ходил взад и
вперед по перрону. За стеклом, в уютно освещенной небольшой комнате пожилой
краснолицый человек с видимым удовольствием ставил печать на листках. Слышался
однообразный, неизвестно откуда идущий свист. Слегка пахло гарью, и запах этот
рождал неясные, старые, приятно-волнующие воспоминания. Впереди светились
разноцветные, точно игрушечные, огни. За решеткой клетки тяжело опускалась в
подземелье, как в преисподнюю, грузовая подъемная машина.
Далеко на полотне низко над землей передвигалась красная
светящаяся точка, — кто-то шел с фонарем вдоль стоявшего на запасном пути
нескончаемо-длинного товарного поезда. Черная старушка спала в кресле, в ярко
освещенной комнате с стеклянной дверью. Краснолицый человек все продолжал
ставить печати, — и было в нем, в его листках, в освещении комнатки, в
стоявшем у стены большом кожаном диване что-то уютное, ласковое. «Вот так и
надо было прожить свой век… Но это от меня не зависело… Она вот как тот
кран, — подхватит, перенесет, куда-то выбросит… А если бороться нельзя, то
маленькая — очень маленькая — доля утешения в том, что сам помогаешь крану, по
крайней мере в выборе времени…»
На перрон стали выходить люди. Одуряюще-протяжно просвистел
свисток. Краснолицый человек с сожалением отложил листки и вышел из своей
комнаты. Черная старушка проснулась, ахнула и бросилась к носильщику. «Нет,
нет, это скорый поезд в Париж. До вашего еще больше часа», — сказал
носильщик, видимо очень этим успокоив старушку. Она вопросительно взглянула на
Брауна: верно ли, что поезд в Париж? — и тотчас испуганно отвернулась. Два
красных огонька сбоку над полотном погасли, вспыхнули желтые, опять страшно
загудел свисток и вдали показался огненный глазок паровоза. Девочка,
провожавшая отца, с ужасом, как к пропасти, приблизилась к рельсам и, скосив
голову, заглянув в сторону, попятилась назад. «Elise, mais tu es folle!..»[292] — послышался отчаянный
крик. С тяжелым грохотом, сдерживая ход, подкатил скорый поезд. Отец семейства
наскоро всех перецеловал, подхватил левой рукой чемодан, и с решительным видом
принялся отпирать тяжелые дверцы вагона.
Метрдотель с легким неудовольствием сказал, что обед
начнется только в семь часов тридцать. Браун, не отвечая, сел у окна. Другой
лакей помоложе, пробегавший по вагону с непостижимо-громадной грудой
серо-голубых тарелок на одной руке, остановился перед ним с вопросительным
видом. «Un porto sec»[293], —
сказал Браун, глядя на него мутным взглядом. «Oui, Monsieur… Un porto rouge,
un»[294], — с удовольствием
прокричал, уносясь куда-то, лакей. За окном сверкнули красные огни. «Вот и
вокзала больше не увижу… Тогда и об этой будке пожалей, старый дурак!..»
Поезд все ускорял ход. Уютно-печально стал накрапывать
дождь. Капли неровно стекали по черному стеклу. Сверкали огни, металась вверх и
падала телеграфная проволока. Лакей принес портвейн. «Посетите
Шотландию», — приглашало объявление на красном дереве стены. «Монте-Карло,
спорт и солнце», — заманивало другое объявление. Когда-то все это
составляло одну из лучших радостей жизни, В этих нехитрых объявлениях тоже было
что-то непостижимо-сладостное, как в старых, заигранных, именно в заигранности
прелестных мелодиях, вроде песенки «Санта Лючия» или интермеццо «Сельской
чести», которые подтягивает каждый кто их слышит. Браун вспомнил, что купил в
Париже газету. В обзоре печати ему бросилось в глаза имя Серизье. Приводились
наиболее замечательные отрывки из его очередной статьи: «Notre foi demeure».[295] Браун взглянул на третью
страницу и убедился, что читать не может.
Суровый метрдотель подошел к нему и сказал, что сейчас
начнется обед. — «Это место занято, но если мосье угодно остаться, то еще
есть свободные столы». — «Да, да, — ответил Браун с внезапным
оживлением, — что у вас сегодня? Ведь à la carte[296] нельзя?» — «К сожалению, во время обеда
невозможно, — мягче ответил метрдотель, — но если мосье угодно
заказать какое-либо экстра, то я скажу повару…» — «Вот, вот, — торопливо
сказал Браун, — и вина получше. Какого бы вина?..» Он долго изучал
карту, — «всех в последний раз не попробуешь», — и спросил
шампанского. — «Полбутылки прикажете?» — «Целую бутылку… Или нет,
полбутылки шампанского и полбутылки вот этого Шато-Латур. А до того дайте мне
еще портвейна… Или лучше чего-нибудь другого. У вас есть херес?» —
«Превосходный, из нашего запаса, мосье может быть уверен, что это…» — «Вот,
вот, дайте мне хереса». Смягчившийся и изумленный метрдотель объявил, что мосье
может оставаться на этом месте, если оно ему нравится: «Номер я
переменю». — «Ах, да, ради Бога!..»
В вагон-ресторан входили хорошо одетые, по дорожному
празднично настроенные люди, и, весело переговариваясь, занимали места. Браун
жадно ел, пил и, вздрагивая, что-то бормотал, к недоумению сидевшего против
него старичка в сером костюме. — «Vous elites, Monsieur?»[297] — спросил, наконец, вежливо старичок,
«Папиросы Честерфильд», — сказал Браун, глядя поверх головы старичка на
объявление. Старичок вытаращил глаза и поспешно налил себе минеральной воды.
Дождь шел все сильнее, на створках стекла обозначились мутные пятна, как от
крошечных пальцев. Браун пил кофе, ликеры. «Неприятная дрожь… Значит,
простудился там, у печки, это очень печально…» — «Очень печально», — повторил
он вслух. Вежливый старичок расплатился, не допив липовой настойки, и ушел с
легким, ни к кому в частности не относившимся поклоном. Вагон стал пустеть.
«Но, может быть, рано, как ни безупречно рассуждение? Может
быть, и второй удар будет нескоро? Разве нельзя покончить с собой и после
того?» — «Нет, тогда будет поздно, тогда паралич сознания и воли…» — «Но разве
паралич наступает мгновенно? Проблески сознания остаются, и не так уж хитро
произвести последний опыт… Вот, Монте-Карло, sport and sun[298]. Отчего не съездить еще на юг? Разве можно
умереть, не простившись с Италией? Не увидев в последний раз Венеции, Рима, не
услышав аромата апельсинных садов?.. Да и без Италии живут ведь люди, находят
чем жить, есть ведь простая жизнь: «какая хорошенькая!..» «малый шлем без
козырей!» «выпьем-ка водочки!..» Ведь туда не опоздаешь…» Всякий раз,
когда ему приходили в голову эти мысли, тысячу раз передуманные, он испытывал
невообразимое облегчение, — так беспрестанно спасался и снова погибал уже
не одну неделю. Лакеи убрали скатерти, на столах появился войлок, убавили света
в другой части вагона. Из кухни выглянул повар, с распаренным багровым лицом.
— Мосье, через десять минут мы будем в Париже, —
сказал метрдотель.
— Да, я очень рад, — ответил Браун. Он встал и
пошел, пошатываясь, к двери. Метрдотель смотрел ему вслед с таким же
недоумением и испугом, с какими смотрели на Брауна все люди, встречавшие его в
тот вечер.
|


