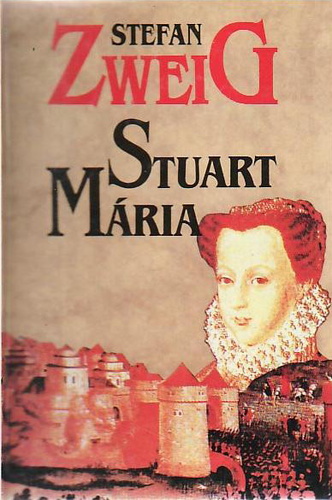
 Увеличить Увеличить |
7. Второе замужество
(1565)
То
неожиданное, что произошло, в сущности, самая обыкновенная вещь на свете:
молодая женщина влюбляется в молодого человека. Нельзя надолго подавить
природу: Мария Стюарт, женщина с нормальными чувствами и горячей кровью, в этот
поворотный миг стоит на пороге своей двадцать третьей весны. Четыре года
вдовства протекли для нее в строгом воздержании, без единого сколько-нибудь
серьезного любовного эпизода. Но страсти можно лишь до поры до времени держать
в узде: даже в королеве женщина в конце концов предъявляет самое священное свое
право — любить и быть любимой.
Предметом
первого увлечения Марии Стюарт стал — редкий в мировой истории случай — не кто
иной, как политический искатель невест, Дарнлей, в 1565 году по поручению своей
матушки объявившийся в Шотландии. Мария Стюарт не впервые встречает этого
юношу: четыре года назад, пятнадцатилетним подростком, он прибыл во Францию,
чтобы принести в затененный покой вдовы de deuil blanc соболезнования своей
матушки. И как же вытянулся с тех пор этот долговязый, широкоплечий юнец с
соломенно-желтыми волосами, с девически гладким, безбородым, но и девически
красивым лицом, на котором большие, круглые мальчишеские глаза с каким-то
недоумением смотрят на мир. «Il n’est possible de voir un plus beau prince»[77], — сообщает
о нем Мовиссьер, да и на взгляд юной королевы Дарнлей — «на редкость пригожий и
статный верзила» — «the lustiest and bestproportioned long man». Марии Стюарт,
с ее пылкой, нетерпеливой душой, свойственно обольщаться иллюзиями.
Романтические натуры ее склада редко видят людей и жизнь в истинном свете; мир
обычно представляется им таким, каким они хотят его видеть. Непрестанно
бросаемые от чрезмерного увлечения к разочарованию, эти неисправимые
мечтательницы никогда не отрезвляются полностью. Освободившись от иных иллюзий,
они тут же поддаются другим, ибо в иллюзиях, а не в действительности для них
настоящая жизнь. Так и Мария Стюарт в скороспелом увлечении этим гладким юношей
не замечает вначале, что его красивая внешность не скрывает большой глубины,
что тугие мускулы не говорят о подлинной силе, а придворный лоск не знаменует
душевной утонченности. Мало избалованная своим пуританским окружением, она
видит лишь, что этот юный принц мастерски сидит в седле, что он грациозно
танцует, любит музыку и прочие тонкие развлечения и при случае может накропать
премилый мадригал. Малейший намек на артистичность в человеке всегда много для
нее значит; она от души радуется, что нашла в молодом принце товарища по танцам
и охоте, по всевозможным играм и упражнениям в искусствах, которыми увлекаются
при дворе. Его присутствие вносит разнообразие и свежее дыхание юности в
затхлость и скуку придворной жизни. Но не только королеву пленил Дарнлей —
недаром, следуя наставлениям сметливой матушки, он ведет себя с примерной скромностью:
повсюду в Эдинбурге он вскоре желанный гость, «well liked for his personage»[78], как доносит
Елизавете ее недальновидный соглядатай Рандольф. С поразительной ловкостью
добивается он успеха не только у Марии Стюарт, но и у всех вокруг.
Так, он
завязывает дружбу с Давидом Риччо, новым доверенным секретарем королевы,
агентом контрреформации: днем они вместе играют в мяч, ночью делят ложе. Но,
заискивая у католической партии, он ластится и к протестантам. По воскресеньям
сопровождает регента Меррея в реформатскую «кирку», где с хорошо разыгранным
волнением слушает проповедь Джона Нокса; днем, для отвода глаз, обедает с
английским посланником и славит доброе сердце Елизаветы, а вечером танцует с
четырьмя Мариями. Короче говоря, долговязый, недалекий, но хорошо вышколенный
юноша отлично справляется со своей задачей; и, будучи круглым ничтожеством, ни
в ком не возбуждает преждевременных подозрений.
Но вот
искра перекинулась, и занялся пожар — Мария Стюарт, чьей благосклонности ищут
государи и князья, сама теперь ищет любви глупого девятнадцатилетнего мальчика.
Долго сдерживаемая, нетерпеливая страсть пробивается с вулканической силой, как
это бывает с цельными характерами, не растратившими и не промотавшими своих
чувств в пустых интрижках и легкомысленных увлечениях; благодаря Дарнлею
впервые в Марии Стюарт заговорило женское естество — ведь ее супружество с
Франциском II так и осталось ничем не разрешившейся детской дружбой, и все эти
годы женщина в королеве прозябала в каких-то сумерках чувств. Наконец-то перед
ней человек, мужчина, на которого оттаявший, запруженный переизбыток ее
страстности может излиться кипящей стремниной. Не размышляя, не рассуждая, она,
как это часто бывает с женщинами, видит в первом попавшемся шалопае
единственного возлюбленного, посланного ей судьбой. Конечно, умнее было бы
повременить, проверить человека, узнать ему настоящую цену. Но требовать логики
от страстно влюбленной молодой женщины — все равно что искать солнце в глухую
полночь. Тем-то и отличается истинная страсть, что к ней неприменим скальпель
анализа и рассудка. Ее не вычислишь наперед, не сбалансируешь задним числом.
Выбор, сделанный Марией Стюарт, лежит, без сомнения, за гранью ее обычно столь
трезвого разума. Ничто в этом незрелом, тщеславном и разве что красивом мальчике
не объясняет такого бурного разлива чувств. Как и у многих мужчин, которых не
по заслугам любят превосходящие их духовно женщины, единственная заслуга
Дарнлея, его приворотный корень в том, что ему посчастливилось в критическую
минуту, исполненную величайшего напряжения, подвернуться этой женщине, в
которой еще только дремала воля к любви.
Итак,
понадобилось немало времени, чтобы кровь гордой дочери Стюартов взыграла. Зато
теперь она бурлит и клокочет в нетерпении. Уж если Мария Стюарт что задумала, долго
тянуть и откладывать она не станет. Что ей Англия, что Франция, что Испания,
что все ее будущее по сравнению со счастьем этой минуты! Довольно с нее скучной
игры в дурачки с Елизаветой, довольно полусонного сватовства из Мадрида, хотя
бы и сулящего ей корону двух миров: ведь рядом он, этот светлый, юный и такой
податливый, сластолюбивый мальчик с алым чувственным ртом, глупыми ребячьими
глазами и еще только пробующей себя нежностью! Поскорее связать себя,
принадлежать ему — вот единственная мысль, владеющая королевой в этом
блаженно-чувственном ослеплении. Из придворных знает на первых порах о ее
склонности, о ее сладостных тревогах лишь новый доверенный ее секретарь Давид
Риччо, не жалеющий сил, чтобы искусно направить ладью влюбленных в гавань
Цитеры[79].
Тайный агент папы видит в супружестве королевы с католиком верный залог владычества
вселенской церкви в Шотландии и с усердием сводника хлопочет не столько о
счастье юной пары, сколько о политических интересах контрреформации. В то время
как оба хранителя печати, Меррей и Мэйтленд, еще и не подозревают о намерениях
королевы, он сносится с папой, испрашивая разрешения на брак, поскольку Мария
Стюарт состоит с Дарнлеем в четвертой степени родства. В предвидении неизбежных
осложнений он зондирует почву в Мадриде, может ли королева рассчитывать на
помощь Филиппа II, если Елизавета захочет помешать этому браку, — словом,
исполнительный агент трудится не покладая рук в надежде, что успех послужит к
его собственной славе и к славе католического дела. Но как он ни трудится, как
ни роет землю, расчищая дорогу к заветной цели, королеве не терпится — ей
противна эта медлительность, эта осторожность и оглядка. Ведь пройдут
бесконечные недели, пока письма со скоростью черепахи доползут туда и обратно
через моря и океаны. Она более чем уверена в разрешении святого отца, так стоит
ли ждать, чтобы клочок пергамента подтвердил то, что ей необходимо сейчас, сию
минуту. В решениях Марии Стюарт всегда чувствуется эта слепая безоглядность,
этот великолепный безрассудный задор. Но и эту волю королевы, как и всякую
другую, сумеет выполнить расторопный Риччо; он призывает к себе католического
священника, и хотя у нас нет доказательств того, что был совершен некий
предварительный обряд — в истории Марии Стюарт нельзя полагаться на свидетельства
отдельных лиц, — какое-то обручение состоялось, союз между влюбленными был
как-то скреплен. «Laudato sia Dio, — восклицает их бравый приспешник
Риччо, — теперь уже никому не удастся disturbare le nozze»[80]. При дворе и не догадываются
о матримониальных планах Дарнлея, а он уже поистине стал господином ее судьбы;
а может быть, и тела.
Matrimonio
segreto[81]
держится в строгой тайне; не считая священника, обязанного молчать, посвящены
только эти трое. Но как дымок выдает невидимое пламя, так нежность обличает
скрытые чувства; прошло немного времени, и весь двор уже глаз не сводит с
влюбленной пары. Каждому бросилось в глаза, с каким рвением и какой тревогой
ухаживала Мария Стюарт за своим родичем, когда бедный юноша — как ни смешно это
звучит для жениха — заболел корью. Все дни просиживает она у постели больного,
и он, поправившись, ни на шаг от нее не отходит. Первым насупил брови Меррей.
До сего времени он от души поощрял (радея главным образом о себе) все
матримониальные проекты своей сестрицы; будучи правоверным протестантом, он
даже не возражал против того, чтобы породниться с испанским отпрыском
Габсбургов, этим оплотом и щитом католицизма, не видя для себя в том большой
помехи, — от Холируда не ближний свет до Мадрида. Но кандидатура Дарнлея
для него зарез. Проницательному Меррею не надо объяснять, что едва лишь
тщеславный слабохарактерный юнец станет принц-консортом, как он захочет
самовластия, будто настоящий король; Меррей к тому же достаточно политик, чтобы
чуять, куда ведут тайные происки секретаря-итальянца, агента папы: к
восстановлению католического суверенитета, к искоренению Реформации в
Шотландии. В этой непреклонной душе властолюбивые планы перемешаны с
религиозными верованиями, жажда власти — с тревогой о судьбах отечества; Меррей
ясно видит, что с Дарнлеем в Шотландии установится чужеземная власть, а его
собственной придет конец. И он обращается к сестре со словами увещания,
предостерегая ее против брака, который вовлечет еще не замиренную страну в
неисчислимые конфликты. И когда убеждается, что предостережениям его не
внемлют, в гневе покидает двор.
Да и
Мэйтленд, второй испытанный советник королевы, сдается не сразу. И он понимает,
что его высокое положение и мир в Шотландии под угрозой, и он, как
министр-протестант, восстает против принца-консорта[82] католика; постепенно
вокруг обоих вельмож собирается вся протестантская знать. Открылись глаза и у
английского посла Рандольфа. В смущении оттого, что оплошал и время упущено,
ссылается он в своих донесениях на witchcraft — смазливый юноша якобы околдовал
королеву — и бьет в набат, прося помощи. Но что значат недовольство и ропот
всех этих мелких людишек по сравнению с неистовым, яростным и бессильным гневом
Елизаветы, когда она узнает о выборе, сделанном противницей! Дорого же она
поплатилась за свою двойную игру; во всей этой комедии сватовства ее попросту
одурачили, сделали общим посмешищем. Под видом переговоров о Лестере выманили у
нее истинного претендента и контрабандой увезли в Шотландию; она же со всей
своей архидипломатией села в лужу и может теперь пенять только на себя. В
приступе ярости она велит заточить в Тауэр леди Ленокс, мать Дарнлея, зачинщицу
сватовства, она грозно приказывает своему «подданному» Дарнлею немедля
вернуться в Англию, она стращает его отца конфискацией всех поместий, она
созывает коронный совет, и он, по ее требованию, объявляет этот брак опасным
для дружбы между обоими государствами, иначе говоря, угрожает войной. Но
обманутая обманщица так растерялась в душе и так напугана, что тут же начинает
клянчить и торговаться; спасаясь от позора, она торопится бросить на стол свой
последний козырь, заветную карту, которую до сих пор прятала в рукаве. Впервые
в открытой и обязывающей форме предлагает она Марии Стюарт (теперь, раз уже
игра все равно проиграна) подтвердить ее право на английский престол, она даже
отряжает в Эдинбург (так ей не терпится) нарочного с торжественным обещанием:
«If the Queen of Scots would accept Leicester, she would be accounted and
allowed next heir to the crown as though she were her own born daughter»[83]. Это ли не
образчик извечной бессмыслицы всяких дипломатических торгов и ухищрений: то,
чего Мария Стюарт долгие годы добивалась от своего недруга всеми силами ума,
всей настойчивостью и хитростью, а именно: признания ее наследственных прав,
само теперь плывет ей в руки и как раз благодаря величайшей глупости, какую она
сотворила в жизни.
Но
такова судьба всех политических уступок: они всегда запаздывают. Не далее как
вчера Мария Стюарт была политиком, сегодня она только женщина, только возлюбленная.
Стать признанной наследницей английского престола было лишь недавно ее заветной
мечтой; сегодня это честолюбивое стремление оттеснено куда более легковесным,
но и более пламенным желанием женщины — поскорее завладеть этим статным
красавцем, этим мальчиком. Запоздали угрозы и прельстительные посулы Елизаветы,
запоздали и увещания честных друзей, таких, как герцог Лотарингский, ее дядя,
который советует ей отказаться от этого «joli hutaudeau» — «смазливого
шалопая». Ни доводам разума, ни соображениям государственной важности уже не
совладать с ее пылким нетерпением. Иронически звучит ее ответ разъяренной
Елизавете, запутавшейся в собственных сетях: «Мне поистине странно, что я не
угодила моей доброй сестрице: ведь выбор, который она порицает, ни в чем не расходится
с ее волей. Разве не отвергла я всех чужеземных искателей и не предпочла им
англичанина, в жилах которого течет кровь обоих наших правящих домов, первого
принца Англии?» Против этого Елизавете трудно возразить, ведь Мария Стюарт чуть
не буквально — но только по-своему — выполнила ее волю. Она остановила свой
выбор на английском дворянине, том самом, которого Елизавета прислала к ней с
двусмысленными намерениями. Но так как соперница, не владея собой, засыпает ее
все новыми предложениями и угрозами, Мария Стюарт высказывается уже грубо и
откровенно. Слишком долго ее кормили обещаниями и обманывали в лучших надеждах:
наскучив этим, она, с одобрения всей страны, сама сделала выбор. Невзирая на
то, что из Англии шлют то кислые, то сладкие письма, в Эдинбурге на всех парах
готовятся к свадьбе, Дарнлею наспех жалуют еще титул герцога Росского;
английский посланник, который в последнюю минуту прискакал из Англии с кипой
протестов и нот, еще не вылезая из кареты, слышит, что Генри Дарнлею отныне
надлежит именоваться и титуловаться (namet and stylith) не иначе, как королем.
Двадцать
девятого июля колокола возвещают о венчании. В маленькой домашней капелле Холируда
священник благословляет молодых. Мария Стюарт, неистощимо изобретательная в
устройстве торжественных церемоний, приводит всех в изумление, появившись в
траурном одеянии, том самом, в котором она провожала гроб своего усопшего
супруга, короля Франции, — этим она как бы подчеркивает, что не по
легкомыслию идет она вторично к алтарю, не потому, что забыла первого супруга,
а единственно выполняя волю своего народа. И только прослушав мессу и
вернувшись к себе в опочивальню, она — вся эта сцена мастерски задумана, и
пышные уборы лежат наготове, — уступая нежным мольбам Дарнлея, соглашается
снять траур и сменить его на цвета радости и веселья. Внизу осаждает замок
ликующая толпа, в которую щедрыми горстями кидают деньги, и с легким сердцем
королева и ее народ спешат упиться праздничным весельем. К великой досаде Джона
Нокса, кстати лишь недавно, на пятьдесят седьмом году жизни, вторично
вступившего в брак и взявшего девицу восемнадцати лет — но радости он признает
только для себя, — четыре дня и четыре ночи кипит веселье, и пиршества
сменяют друг друга, как будто все темное, гнетущее ушло навек и отныне начинается
блаженное царство юности.
Отчаянию
Елизаветы нет границ, когда она, незамужняя и неспособная к замужеству, слышит,
что Мария Стюарт вновь взошла на брачное ложе. Сама же она своими хитроумными
маневрами только осрамила себя на весь мир: сватала королеве Шотландской своего
сердечного дружка, а его оконфузили всенародно; возражала против кандидатуры
Дарнлея, а ее советами пренебрегли; послала нарочного с последним
предупреждением, а ее посланца продержали у запертых дверей, пока не кончился
обряд. Необходимо было что-то предпринять для спасения своего престижа. Порвать
дипломатические отношения и объявить войну? Но под каким предлогом? Ведь Мария
Стюарт абсолютно и неоспоримо права, она достаточно посчиталась с волею
Елизаветы, не отдав своей руки чужеземцу, к тому же Дарнлей и безупречная
партия: ближайший кандидат на английский престол, правнук Генриха VII — чем не
достойный супруг? Нет, всякая попытка протестовать, ввиду полного ее бессилия,
только изобличит перед миром личную досаду Елизаветы.
Однако
двойная игра всегда была и пребудет душой всех поступков Елизаветы. Только что
потерпев жестокую неудачу, она все же остается верна себе. Она, конечно,
воздержится от объявления войны, не отзовет и своего посланника, но втихомолку
постарается, елико возможно, пакостить счастливой паре. Слишком нерешительная и
осторожная, чтобы открыто выступить против своих лютых врагов, Дарнлея и Марии
Стюарт, она действует с помощью интриг и подкупов. В Шотландии всегда найдутся
недовольные, восстающие против наследственной власти, а на сей раз с ними
заодно человек, головой выше прочей мелюзги, выделяющийся своей незаурядной
энергией и открыто заявивший протест. Меррей демонстративно не явился на
свадьбу сестры, и посвященные сочли это недобрым знаком. Ибо Меррею — что
немало способствует притягательности и загадочности этой фигуры — в
удивительной мере присуще умение предугадывать внезапные изменения политической
погоды; какой-то верный инстинкт предупреждает его о назревающей опасности, и в
этих случаях он делает самое умное, что может сделать умудренный
политик, — исчезает. Он выпускает из рук кормило власти и становится
невидим и неуловим. Подобно тому как внезапное высыхание рек и иссякание
источников предвещает в природе стихийные бедствия, — так исчезновение
Меррея неизменно предрекает — история Марии Стюарт тому наглядное
доказательство — политическую непогоду. На первых порах Меррей ведет себя
скорее пассивно. Он запирается в своем замке, он упрямо избегает двора,
показывая, что, как регент и сберегатель протестантизма, решительно осуждает
возведение Дарнлея на шотландский престол. Но Елизавете мало одного протеста.
Ей нужен бунт; в Меррее и в столь же, как и он, недовольных Гамильтонах ищет
она союзников и помощников. Со строжайшим наказом ни в коем случае ее не скомпрометировать,
«in the most secret way», поручает она агенту поддержать лордов деньгами и
людьми «as if from himself», якобы по его личному почину, ей же, Елизавете,
будто ничего о том не известно. Деньги, как благодатная роса на жухнущие луга,
падают в жадные руки лордов, сердца их снова загораются мужеством, и обещанная
военная помощь способствует назреванию мятежа, которого с таким нетерпением
ждут в Англии.
Пожалуй,
единственная ошибка Меррея, этого умного и дальновидного политика, в том, что
он и в самом деле понадеялся на ненадежнейшую из правительниц и стал во главе
мятежа. Разумеется, осторожный заговорщик не спешит ударить и лишь тайно
вербует сообщников; он не прочь повременить, пусть Елизавета открыто выскажется
за возмутившихся лордов, и тогда не как мятежник, но как сберегатель веры
станет он против сестры. Однако Мария Стюарт, встревоженная двусмысленным
поведением брата и по праву не желая терпеть его враждебной безучастности,
торжественно призывает его к ответу, требуя, чтоб он оправдался перед
парламентом. Меррей, гордостью не уступающий сестре, не признает себя
обвиняемым и надменно отказывается покориться; и тогда на него и его
приверженцев налагается опала (put to the horn), глашатай возвещает об этом на
рыночной площади. Так снова призвано решать оружие, а не разум.
И тут,
как всегда в минуты ответственных решений, проявляется с неотразимой ясностью
различие обоих темпераментов — Марии Стюарт и Елизаветы. Мария Стюарт не знает
колебаний, ее мужество нетерпеливо, у него жаркое дыхание и быстрая поступь.
Елизавета же, скованная робостью, медлит и тянет с решением; она еще только
размышляет, не вмешаться ли открыто, не повелеть ли государственному казначею
снарядить войско в помощь бунтовщикам, как Мария Стюарт уже нанесла удар.
Всенародно оглашает она грамоту, в которой начисто изобличает бунтовщиков.
«Мало того что они без счету захватили почестей и богатств, они бы и Нас, и все
Наше Королевство рады прибрать к рукам, чтобы владеть им по своей воле, а Нам
бы слушаться во всем их указки, — словом, они не прочь завладеть
престолом, а Нам разве что оставить титул, исправлять же все дела в государстве
предерзостно берутся сами».
Не теряя
ни минуты, вскакивает отважная амазонка в седло. Сунув пистолеты за пояс, в
сопровождении закованного в золоченые латы молодого супруга и верных присяге
дворян, торопится она во главе наспех собранного войска навстречу бунтовщикам.
Не успели веселые гости отрезвиться, как свадебный поезд превратился в военный
поход. И эта безоглядная решимость приносит свои плоды. Кое-кого из мятежных
баронов оторопь берет перед этой новоявленной энергией, тем более что
подкреплений из Англии не видно, Елизавета вместо обещанной помощи отделывается
смущенными отговорками. Один за другим возвращаются они с повинной к своей
законной государыне, и только Меррей не хочет покориться; всеми покинутый, он
не успевает сколотить мало-мальски годное войско, как уже разбит наголову и
вынужден скрыться. До самой границы преследует его в безумной, бешеной скачке
победоносная королевская чета. Меррей едва уносит ноги и в середине октября
находит убежище на английской земле.
Полная
победа — все бароны и лорды ее владений тесно сомкнулись вокруг Марии Стюарт,
впервые за долгое время Шотландия вновь припала к ногам своего государя и
государыни. На какой-то миг уверенность в своих силах так захлестывает Марию
Стюарт, что она подумывает, не перейти ли в наступление, не вторгнуться ли в
Англию, где, как она знает, католическое меньшинство с ликованием встретит
освободительницу; трезвые советчики с трудом сдерживают ее разгулявшуюся удаль.
Зато учтивостям конец — с тех пор как она выбила из рук противницы все ее
карты, в том числе и ту, что Елизавета прятала в рукаве. Брак по собственному
выбору был первой победой Марии Стюарт, разгром мятежников — второй; открыто,
уверенно может она теперь смотреть в глаза своей «доброй сестрице» за кордоном.
Если
положение Елизаветы и раньше было незавидным, то после разгрома ею
выпестованных и обнадеженных бунтовщиков ей приходится и вовсе туго.
Разумеется, всегда существовал и существует у правителей обычай — в случае
поражения тайно навербованных в соседней стране повстанцев открыто их
дезавуировать, предоставив собственной участи. Но уж если кому не повезет, так
не везет до конца. Надо же случиться, чтобы какие-то деньги Елизаветы,
предназначенные для лордов, — явная улика — благодаря смелому нападению
попали в руки Босуэлу, заклятому недругу Меррея. А тут еще и вторая
неприятность: спасаясь от преследования, Меррей, естественно, бежал в страну,
где его открыто и тайно ласкали, — в Англию. Мало того, у побежденного
хватило смелости пожаловать в Лондон. Какой конфуз — попасться в двойной игре,
когда до сих пор ей все сходило с рук! Ведь допустить ко двору опального Меррея
— значит задним числом благословить мятеж. Если же она отвернется от тайного
союзника и Тем нанесет ему открытую обиду, чего только оскорбленный не способен
наклепать на свою милостивицу, о чем при иностранных дворах и знать не должно.
Никогда еще Елизавета не попадала в такую ловушку из-за своей двойной игры. Но
недаром это век прославленных комедий, и не случайно Елизавета дышит тем же
пряным, пьянящим воздухом, что Шекспир и Бен Джонсон. Природная актриса, она,
как ни одна королева, знает толк в театре и эффектных сценах. Хэмптон-корт и
Вестминстер[84]
того времени могли смело поспорить с «Глобусом» и «Фортуной»[85] по части эффектных сцен.
Едва лишь становится известно о прибытии неудобного союзника, как его в тот же
вечер призывает к себе Сесил, чтобы прорепетировать с ним роль, которую тому
завтра предстоит исполнить для реабилитации Елизаветы.
Трудно
выдумать что-либо более наглое, чем эта разыгранная наутро комедия. У королевы
сидит французский посланник, разговор идет — ведь ему и невдомек, что он зван
на веселый фарс, — о политических делах. Вошедший слуга докладывает о
прибытии графа Мелвила. Королева высоко вздергивает брови. Что такое? Не
ослышалась ли она? Неужто и вправду лорд Меррей? Да как же он осмелился,
презренный мятежник, обманувший ее «добрую сестрицу», явиться в Лондон? И что
за неслыханная наглость показаться на глаза ей, которая — весь мир это знает —
телом и душой предана своей милой кузине. Бедная Елизавета! Она не может
опомниться от удивления и негодования. И лишь после долгих колебаний решается
принять этого «наглеца», но только не с глазу на глаз. Нет, боже упаси! И она
не отпускает французского посланника, чтобы заручиться свидетелем своего «искреннего»
возмущения.
Выход
Меррея. Серьезно и добросовестно ведет он свою роль. Уже самое его появление
говорит о том, что человек пришел с повинной толовой. Смиренно и нерешительно,
отнюдь не обычной своей горделивой и смелой походкой, облаченный во все черное,
приближается он, склоняет колено, как проситель, и обращается а королеве на
своем родном шотландском языке. Елизавета обрывает его и приказывает говорить
по-французски, дабы посланник мог следить за их беседой, — пусть никто не
посмеет сказать, что у королевы какие-то секреты с отъявленным бунтовщиком.
Меррей что-то смущенно бормочет, но Елизавета сразу же переходит в наступление:
она-де не понимает, как он, беглец и бунтовщик, восставший против ее лучшего
друга, отважился без зова явиться во дворец. Правда, у нее с Марией Стюарт
бывали разногласия, но ничего серьезного. Она всегда видела в шотландской
королеве родную сестру и надеется, что так будет и впредь. И если Меррей не
докажет, что лишь по недоразумению или защищая свою жизнь восстал он против
своей госпожи, она повелит бросить его в тюрьму и будет судить как изменника.
Пусть же Меррей перед ней оправдается.
Натасканный
Сесилом, Меррей прекрасно понимает, что волен говорить решительно все, кроме
правды. Он знает: всю вину ему должно принять на себя, чтобы обелить Елизавету
в глазах посланника, доказать ее полную непричастность к ею же инспирированному
заговору, Он должен подтвердить ее алиби. И вместо того чтобы жаловаться на
сводную сестру, он превозносит ее до небес. Она свыше меры наградила его
землями, осыпала почестями и щедрыми дарами, да и он служил ей не за страх, а
за совесть, и только опасение, что против него злоумышляют, боязнь за свою
жизнь затуманили его разум. К Елизавете же он явился лишь затем, чтобы она, по
милости своей, помогла ему исхлопотать прощение у его повелительницы, королевы
Шотландской.
Уже эти
слова ласкают слух тайной подстрекательницы. Но Елизавете все еще мало. Не для
того она инсценировала комедию, чтобы Меррей в присутствии посланника принял
всю вину на себя, а для того, чтобы, как главный свидетель, он удостоверил, что
Елизавета ничего не знала о заговоре. Прожженный политик солжет — недорого возьмет,
и Меррей клятвенно заверяет посланника, что Елизавета «ни сном ни духом не
ведала о заговоре, никогда она не наущала ни его, Меррея, ни его друзей
нарушить свой верноподданнический долг, возмутиться против Ее Величества
королевы».
Елизавета
добилась своего алиби. Она полностью обелена. С чисто актерским пафосом напускается
она на своего сценического партнера: «Вот когда ты сказал правду! Ибо ни я, ни
кто другой от моего имени не подстрекал вас против вашей королевы. Такое
предательство могло бы дурно кончиться и для меня. Ведь, наученные дурным
примером, и мои подданные могли бы восстать против меня. А теперь с глаз долой,
бунтовщик!»
Меррей
низко склонил голову — уж не для того ли, чтобы скрыть мелькнувшую на губах
улыбку? Он хорошо помнит, сколько десятков тысяч фунтов были всучены ему и
другим лордам через их жен от имени королевы Английской, помнит письма и
заверения Рандольфа и обещания государственной канцелярии. Но он знает: если он
возьмет на себя роль козла отпущения, Елизавета не изгонит его в пустыню. Да и
французский посол с выражением почтительности на лице хранит учтивое молчание;
человек светский и образованный, он умеет ценить хорошую комедию. Лишь дома, у
себя в кабинете, восседая за конторкой и строча донесение в Париж, позволит он
себе лукавую усмешку. Не совсем легко на душе в эту минуту, пожалуй, только у
Елизаветы; должно быть, ей не верится, что кто-то ей поверил. Но, по крайней
мере, ни одна душа не решится открыто высказать сомнение — видимость соблюдена,
а кому нужна правда! Исполненная величия, шурша пышными юбками, покидает она в
молчании зал.
То, что
Елизавета вынуждена прибегнуть к таким жалким уверткам, чтобы, потерпев поражение,
обеспечить себе хотя бы моральное отступление, — вернейшее свидетельство
сегодняшнего могущества Марии Стюарт. Горделиво поднимает она голову — все
устроилось по желанию ее сердца. Ее избранник носит корону. Восставшие бароны
либо вернулись, либо преданы опале и блуждают на чужбине. Звезды
благоприятствуют ей, а если от нового союза родится наследник, сбудется ее заветная,
великая мечта: Стюарт станет преемником объединенного престола Шотландии и
Англии.
Звезды
благоприятствуют ей, благословенная тишина воцарилась наконец в стране. Мария
Стюарт могла бы теперь вздохнуть, вкусить завоеванное счастье. Но жить в вечной
тревоге и порождать тревогу — закон ее неукротимой натуры. Тот, у кого
своенравное сердце, не знает счастья и мира, идущих извне. Ибо в своем буйстве
оно неустанно порождает все новые беды и неотвратимые опасности.
|


