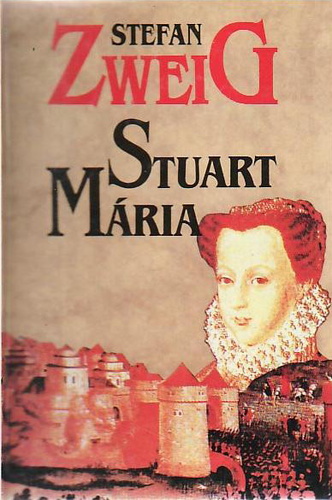
 Увеличить Увеличить |
8. Роковая ночь в
Холируде
(9 марта 1566 года)
Если
чувство в самой поре, то такова уж его природа, что оно не рассчитывает и не
скаредничает, не колеблется и не сомневается; когда любит царственно щедрая
натура, это — полное самоотречение и саморасточение. Первые недели замужества у
Марии Стюарт только и заботы, как излить на молодого супруга свое благоволение.
Каждый день приносит Дарнлею новую нечаянную радость — то лошадь, то богатый
наряд, — сотни маленьких нежных даров любви, после того как она отдала ему
самый большой — королевский титул и свое неуемное сердце. «Чем только может
женщина возвеличить мужчину, — сообщает английский посол в Лондон, —
он взыскан в полной мере… Вся хвала, все награды и почести, какими она
располагает, — все сложено к его ногам. На каждого она смотрит его
глазами, да что говорить — даже волю свою она отдала ему». Верная своей
неистовой натуре, Мария Стюарт ничего не умеет делать наполовину, всему
отдается она безоговорочно, целиком. Когда она дарит свою любовь, то уж без
робости, без оглядки, очертя голову, в неудержимом порыве давать и давать без
конца и меры. «Она во всем покорна его воле, — пишет дальше Рандольф, —
он вертит ею, как хочет». Страстная любовница, она вся растворяется в
послушании, в смирении, переходящем в экстаз. Только безграничная гордость
может в душе любящей женщины обратиться в столь безграничное смирение.
Однако
великие дары лишь тому во благо, кто их достоин, для недостойного они опасны.
Сильные характеры крепнут благодаря возросшей власти (поскольку власть — их
естественная стихия), слабые же гибнут под бременем незаслуженного счастья.
Успех пробуждает в них не скромность, а заносчивость; в каждом свалившемся с
неба подарке видят они по детской наивности собственную заслугу. Как вскоре
выясняется, опрометчивая и безудержная щедрость Марии Стюарт фатально растрачена
на ограниченного, тщеславного мальчишку, которому приличнее бы иметь гувернера,
чем повелевать королевой с большой душой и большим сердцем. Ибо стоило Дарнлею
заметить, какую силу он приобрел, и он становится нагл и заносчив; Он принимает
милости Марии Стюарт, словно причитающуюся ему дань, а великий дар ее
царственной любви — как неотъемлемую привилегию мужчин. Став ее господином, он
считает, что вправе ее третировать. Ничтожная душонка, «heart of wax»[86], как с презрением
скажет о нем сама Мария Стюарт, избалованный мальчишка, ни в чем не знающий
меры, он напускает на себя важность и бесцеремонно вмешивается в
государственные дела. Побоку стишки и приятные манеры, они ему больше не нужны,
он пытается командовать в коронном совете, кричит и сквернословит, он
бражничает в компании забулдыг, а когда королева как-то захотела увести его из
этого недостойного общества, он грубо выругался, и, оскорбленная публично, она
не могла сдержать слезы. Мария Стюарт даровала ему королевский титул — только
титул, а он и вправду возомнил себя королем и настойчиво требует равной с ней
власти — the matrimonial crown; безбородый девятнадцатилетний мальчишка
притязает на то, чтобы править Шотландией, точно своей вотчиной. При этом
каждому ясно: за вызывающей грубостью не кроется и тени мужества, за похвальбой
— ни намека на твердую волю. Марии Стюарт не уйти от постыдного сознания, что
свое первое, прекраснейшее чувство она растратила зря, на неблагодарного
балбеса. Слишком поздно, как это часто бывает, пожалела она, что не послушалась
добрых советов.
А между
тем нет для женщины большего унижения, нежели сознание, что она чересчур поспешно
отдалась человеку, не достойному ее любви; никогда настоящая женщина не простит
этой вины ни себе, ни виновнику. Но столь великая страсть, связывающая двух
любовников, не может сразу смениться простой холодностью и бездушной
учтивостью: раз воспламенившись, чувство продолжает тлеть и только меняет
окраску; вместо того чтобы пылать любовью и страстью, оно распространяет чад
ненависти и презрения. Едва осознав ничтожество этого шалопая, Мария Стюарт, всегда
неукротимая в своих порывах, сразу же лишает его своих милостей, делая это,
быть может, резче и внезапнее, чем позволила бы себе женщина более
осмотрительная и расчетливая. Из одной крайности она впадает в противоположную.
Одну за другой отнимает она у Дарнлея все привилегии, какие в первом увлечении
страсти, не размышляя, без счета дарила ему. О подлинном совместном правлении,
о matrimonial crown, которую она когда-то принесла шестнадцатилетнему Франциску
II, теперь уже и речи нет. Дарнлей вскоре с гневом замечает, что его больше не
зовут на заседания государственного совета; ему запрещают включить в свой герб
королевские регалии. Низведенный на амплуа принца-консорта, он уже играет при
дворе не первую роль, о какой мечтал, а в лучшем случае роль оскорбленного
резонера. Вскоре пренебрежительное отношение передается и придворным: его друг
Давид Риччо больше не показывает ему важных государственных бумаг и, не спросясь
его, скрепляет письма железной печатью (iron stamp) с росчерком королевы;
английский посол уже не титулует его «величеством» и не далее как в сочельник,
всего лишь полгода спустя после медового месяца, сообщает о «strange
alterations»[87]
при шотландском дворе. «Еще недавно здесь только и слышно было, что „король и
королева“, а теперь его именуют „супругом королевы“. Дарнлей уже привык к тому,
что в королевских рескриптах его имя стоит первым, а теперь ему приходится
довольствоваться вторым местом. Были вычеканены монеты с двойным изображением:
„Henricus et Maria“, но их тут же изъяли из обращения и заменили новыми. Между
супругами чувствуется какое-то охлаждение, но поколе это лишь amantium irae[88], или, как
говорят в народе, household words[89],
этому не надо придавать значения, лишь бы дело не пошло дальше».
Но оно
пошло дальше! К тем горьким обидам, какие картонный король вынужден терпеть при
собственном дворе, присоединяется тайная и наиболее чувствительная — обида
оскорбленного мужа. Что в политике не обойдешься без лжи, к этому Мария Стюарт
притерпелась за долгие годы. Не то в сфере чувства: ее глубоко честной натуре
не свойственно притворство. Едва лишь ей становится ясно, как она продешевила
свое чувство, свою страсть, едва лишь из-за вымышленного Дарнлея поры
жениховства выступает недалекий, тщеславный, наглый и неблагодарный юнец, как
физическое тяготение сменяется гадливостью. Охладев к этому человеку, она не
выносит больше его близости.
Едва
королева замечает, что беременна, она под всевозможными предлогами уклоняется
от супружеских объятий. То она больна, то устала, вечно у нее находятся
отговорки, чтобы отделаться от него. И если в первые месяцы их супружества
(разгневанный Дарнлей сам разоблачает эти интимные подробности) именно она была
требовательна в своей страсти, то теперь она оскорбляет его частыми отказами.
Так что и в самой интимной сфере, в которой ему сперва удалось завоевать эту
женщину, Дарнлей чувствует себя — и это наиболее глубокая, потому что наиболее
болезненная обида, — обездоленным и отвергнутым.
У
Дарнлея не хватает душевной выдержки, чтобы скрыть свое поражение. Глупо и тупо
плачется он всем и каждому на свою отставку, он ропщет, вопит, бьет себя в
грудь и клянется, что месть его будет ужасна. Но чем громогласнее трубит он о
своей обиде, тем нелепее звучат его угрозы; проходит несколько месяцев, и,
невзирая на королевский титул, недавний кумир низведен в глазах придворных на
роль скучного, озлобленного приживальщика, от которого каждый норовит отвернуться.
Никто уже не гнет перед ним спину — какое там, все смеются, когда этот
Henricus, Rex Scotiae[90],
чего-нибудь желает, или просит, или требует. Но даже ненависть не так страшна
для властителя, как всеобщее презрение.
Жестокое
разочарование, постигшее Марию Стюарт в ее втором браке, помимо человеческой,
имеет еще и политическую сторону. Она надеялась, что, опираясь на молодого,
преданного ей душой и телом супруга, избавится наконец от опеки Меррея,
Мэйтленда и баронов. Но вместе с медовым месяцем миновали и эти иллюзии. Ради
Дарнлея оттолкнула она Меррея и Мэйтленда и теперь более чем когда-либо
чувствует себя одинокой. Как бы ни было велико постигшее ее разочарование,
Мария Стюарт с ее открытой душой должна кому-то верить; неустанно ищет она
помощника не за страх, а за совесть, на которого можно было бы целиком
положиться. Лучше уж приблизить к себе человека низкого происхождения, пусть у
него не будет представительности Меррея или Мэйтленда, лишь бы он обладал
достоинствами куда более необходимыми при шотландском дворе, неотъемлемыми достоинствами
всякого доброго слуги — безусловной преданностью и надежностью.
Случай
привел к ней такого человека. Маркиз Моретта, савойский посол, привез в
Шотландию среди своей многочисленной свиты молодого смуглого пьемонтца (in
visage very black) Давида Риччо, лет двадцати восьми, черноглазого, с румяными
губами, весьма искусного певца (particolarmente era buon musico). Как известно,
поэты и музыканты — самые желанные гости при романтическом дворе Марии Стюарт.
От матери и отца унаследовала она горячую любовь к изящным искусствам, и ничто
так не утешает и не радует молодую королеву в ее сумрачном окружении, как
возможность послушать прекрасное пение, насладиться звуками скрипки или лютни.
В то время придворной капелле как раз требовался бас, и, поскольку сеньор Дейви
(как именовали итальянца в кругу друзей) не только хорошо пел, но и умел
перекладывать стихи на музыку, королева попросила посла отдать ей своего «buon
musico» в личное услужение. Моретта не возражал, да и Риччо улыбалось место,
обещавшее шестьдесят пять фунтов в год. То, что его провели по книгам как
«Davide le chantre»[91]
и зачислили камердинером по штату придворной челяди, нисколько его не принижает
— вплоть до времени Бетховена музыканты, будь то даже полубоги, занимают при
княжеских дворах положение челядинцев. Еще Вольфганг Амадей Моцарт и седовласый
Гайдн, хоть слава их гремит по всей Европе, едят не за княжьим столом вместе с
дворянством и высшей знатью, а на голых досках, с конюшими и камеристками.
Однако у
Риччо не только сладкозвучный голос, но и прекрасная голова, ясный, живой ум и
тонкий вкус. Латынь он знает не хуже, чем английский и французский, к тому же у
него пребойкое перо — один из сохранившихся его сонетов свидетельствует о
подлинном поэтическом даровании и чувстве формы. Вскоре Риччо представляется
случай покинуть лакейскую. Доверенный секретарь королевы Роле не проявил
должной стойкости в отношении свирепствующей при шотландском дворе эпидемии —
английского подкупа. Пришлось весьма поспешно с ним расстаться. И вот на опустевшее
место в кабинете королевы пролезает расторопный Риччо; с этой минуты он быстро
поднимается по чиновной лестнице. Из обыкновенного писца он становится
доверенным писцом королевы. Мария Стюарт уже не диктует пьемонтцу-секретарю
свои письма, он набрасывает их сам, по своему усмотрению. Спустя несколько
недель его влияние дает себя знать в шотландских делах. Скоропалительный союз с
католиком Дарнлеем — в значительной мере его детище, а ту необычайную
твердость, с какой королева отказывается помиловать Меррея и других
бунтовщиков, опальные вельможи не зря относят за счет его интриг. Был ли Риччо
агентом папы при шотландском дворе, сказать трудно, возможно, это только
подозрение; но, ярый приверженец католичества и папы, он все же с большей преданностью
служит Марии Стюарт, чем ей когда-либо служили в Шотландии. А настоящую преданность
Мария Стюарт умеет ценить. Тот, на чью верность она может рассчитывать, вправе
рассчитывать на ее милости. Открыто, слишком открыто поощряет она Риччо, дарит
ему дорогое платье, доверяет королевскую печать и государственные тайны.
Оглянуться не успели, а Давид Риччо уже один из первых вельмож; нимало не
смущаясь, садится он за стол вместе с королевой и ее подругами; как в свое
время Шателяр (зловещее родство судеб!), он в качестве доброхотного maître de
plaisir, министра пиров и увеселений, помогает устраивать при дворе концерты и
другие изящные развлечения, из слуги все больше превращаясь в друга. На зависть
придворной челяди, низкорожденный иноземец засиживается в покоях королевы до
глубокой ночи, беседуя с нею с глазу на глаз; одетый по-княжески, недоступно
надменный, он поставлен очень высоко, а давно ли нищим проходимцем в потертой
лакейской ливрее явился ко двору — только что песни петь горазд! Теперь же ни
одно дело в Шотландии не делается без его ведома и спроса. Но и вознесенный над
всеми, Риччо остается преданнейшим слугою своей госпожи.
Есть у
нее и второй надежный столп ее самостоятельности — не только политическая, но и
военная власть отдана ею в верные руки. Опорою ей и на этот раз становится
новое лицо — лорд Босуэл; протестант, он уже в юности отстаивал интересы ее
матери, Марии де Гиз, против протестантской конгрегации и от гнева Меррея бежал
из Шотландии. После падения своего смертельного врага он вернулся и отдал себя
и своих приверженцев в распоряжение королевы, а это нешуточная сила. Безоглядно
смелый, готовый на любое приключение рубака, железный воин, равно горячий в
ненависти и любви, Босуэл ведет за собою своих borderers — пограничников. Да он
и сам по себе представляет несокрушимую армию. Благодарная Мария Стюарт дает
ему звание генерал-адмирала, зная, что он схватится с любым врагом, чтобы
защитить ее и ее право на престол.
Опираясь
на этих верных паладинов, двадцатитрехлетняя Мария Стюарт может крепко натянуть
поводья власти — политической и военной. Наконец-то она рискует править одна
против всех — нет такого риска, на который не отважилась бы эта безрассудная
душа.
Но
всякий раз как монарх в Шотландии вздумает править самовластно, лорды встают на
дыбы. Ничто так не поперек души этим ослушникам, как королева, которая не
заискивает и не трепещет перед ними. Из Англии рвутся домой Меррей и другие
опальные вельможи. Они ведут подкупы и подкладывают мины, в том числе
серебряные и золотые, но Мария Стюарт проявляет неожиданную твердость, и гнев
дворян обрушивается в первую голову на временщика Риччо: тайный ропот и возмущение
распространяются по замкам. С негодованием чуют протестанты, что в Холируде
плетется тончайшая сеть дипломатических интриг макиавеллиевской чеканки. Они не
столько знают, сколько догадываются, что Шотландия включилась в обширный тайный
заговор контрреформации; быть может, Мария Стюарт в сговоре с католическим
союзом и связала себя какими-то обязательствами. Первым в ответе за это чужак
Риччо, проходимец, которого так жалует королева, а между тем при дворе у него
не найдется ни одного доброжелателя. Поистине удивительно, как умных людей
всегда подводит собственное неразумие. Вместо того чтобы скрыть свою силу,
Риччо — вечная ошибка всякого выскочки — тщеславно выставляет ее напоказ. Но
едва ли не больше всего страдает самолюбие у гордых вельмож, когда они видят,
как прощелыга лакей, приблудный шарманщик без роду и племени проводит долгие
часы в покоях государыни рядом с ее опочивальней, услаждая сердце задушевной
беседой. Все больше терзает их подозрение, что эти тайные беседы клонятся к
тому, чтобы с корнем вырвать Реформацию и утвердить в стране католицизм. И дабы
своевременно расстроить эти гнусные замыслы, несколько протестантских лордов
вступают в тайный заговор.
Веками
повелось, что шотландское дворянство знает одно только средство для расправы с
неугодным противником — убийство. Лишь когда паук, ткущий невидимую паутину,
будет раздавлен, когда увертливый, неуязвимый итальянский искатель приключений
будет убран с дороги, только тогда удастся им вновь захватить власть и Мария
Стюарт станет сговорчивей. План извести Риччо, видимо, довольно давно засел в
голове у шотландской знати; за много месяцев до убийства английский посол
сообщает в Лондон: «Либо Господь приберет его до времени, либо им уготовит ад
на земле». Но заговорщики долго не решаются выступить открыто. У них еще
поджилки трясутся при воспоминании, как быстро и решительно пресекла Мария
Стюарт их недавний бунт, им вовсе не улыбается разделить участь Меррея и прочих
эмигрантов. Не меньше страшатся они железной руки Босуэла, зная, как он скор на
расправу, и понимая, что надменный временщик не унизится до того, чтобы
вступить с ними в тайный сговор. Поэтому они только ворчат да стискивают кулаки
в карманах, пока у кого-то не возникает план — поистине дьявольская выдумка —
изобразить убийство Риччо не актом крамолы, а наоборот, вполне законным и
истинно патриотическим деянием, для чего воспользоваться Дарнлеем как
прикрытием, поставив его во главе заговора. На первый взгляд нелепая затея!
Властитель королевства вступает в заговор против собственной супруги, король
против королевы! Но психологически она вполне оправдана, ибо сильнейшим
стимулом у Дарнлея, как у всякого слабого человека, является неудовлетворенное
тщеславие. Да и Риччо слишком вознесся, чтобы отвергнутый Дарнлей не кипел
злобой и ненавистью на своего бывшего приятеля. Приблудный бродяга ведет
дипломатические переговоры, о которых он, Henricus, Rex Scotiae, даже не
ставится в известность; до часу, до двух ночи просиживает у королевы, отнимая у
супруга его законные часы, и власть фаворита прибывает со дня на день, в то
время как его собственная власть на глазах у всего двора с каждым днем идет на
убыль. Нежелание Марии Стюарт сделать его соправителем, передать ему
matrimonial crown, Дарнлей, быть может и справедливо, приписывает влиянию
Риччо, а ведь одного этого достаточно, чтобы разжечь ненависть в обиженном
человеке, не отличающемся особым душевным благородством. Но бароны подливают
еще злейшего яду в отверстые раны его тщеславия, они растравляют в Дарнлее
самое чувствительное место — его оскорбленную мужскую честь. Они пробуждают в
нем ревность, всячески давая понять, что королева делит с Риччо не только
трапезы, но и ложе. И хотя доказательств у них нет, Дарнлей тем легче клюет на
эту наживку, что Мария Стюарт в последнее время то и дело уклоняется от
выполнения супружеского долга. Неужто — жестокая мысль! — она предпочла
ему этого чумазого музыканта? Ущемленное честолюбие, у которого не хватает
мужества для открытых, членораздельных обвинений, легко склонить к
подозрительности: человек, который сам себе не верит, не станет верить и
другим. Лордам не приходится долго подзуживать Дарнлея, чтобы довести его до
исступления и безумия. Вскоре Дарнлей уже не сомневается, что «ему причинена
злейшая обида, какую можно нанести мужчине». Так невозможное становится фактом:
король соглашается возглавить заговор, обращенный против королевы, его супруги.
Был ли
черномазый музыкант Риччо действительно любовником королевы, так и осталось неразрешимой
загадкой. То открытое благоволение, которым Мария Стюарт дарит своего
доверенного писца на глазах у всего двора, скорее красноречиво опровергает это
подозрение. Если даже допустить, что духовная близость женщины и мужчины
отделена от физической лишь незаметной чертой, которую иная взволнованная
минута или неосторожное движение могут легко стереть, то все же Мария Стюарт,
уже носящая под сердцем ребенка, так уверенно и беззаботно отдается дружбе с
Риччо, что трудно счесть это искусной личиной неверной жены. Находясь со своим
секретарем в предосудительной связи, для нее было бы естественно избегать
всего, что наводит на подозрение: не засиживаться с итальянцем до утра за
музыкой или за картами, не запираться с ним в своем рабочем кабинете для
составления дипломатических депеш. Но и здесь, как в случае с Шателяром, Марию
Стюарт подводят как раз наиболее располагающие ее черты — презрение к
пересудам, поистине царственное нежелание считаться с наговорами и сплетнями,
искренняя непосредственность. Опрометчивость и мужество обычно соединены в
одном характере, подобно добродетели и наивности, являя две стороны одной
медали; только трусы и сомневающиеся в себе страшатся даже подобия вины и
действуют с оглядкой и расчетом.
Но стоит
кому-либо пустить молву о женщине, хотя бы самую нелепую и вздорную, как ее уже
не остановишь. Переносясь из уст в уста, она ширится и растет, раздуваемая
ветром любопытства. Целых полвека спустя клевету эту подхватит Генрих IV[92]; в насмешку
над Иаковом VI, сыном Марии Стюарт, которого она тогда носила во чреве, он
скажет: «Ему правильнее было бы называться Соломоном[93], ведь он тоже «Давидов
сын». Так репутация Марии Стюарт вторично терпит тяжкий ущерб и опять не по ее
вине, а исключительно по опрометчивости.
Заговорщики,
натравливавшие Дарнлея, сами не верили в свою выдумку — это явствует уже из
того, что два года спустя они торжественно провозгласят мнимого бастарда
королем. Вряд ли стали бы надменные лорды присягать на верность незаконному отпрыску
заезжего музыканта. Ослепленные ненавистью, обманщики и тогда уже знали правду,
и клевещут они лишь затем, чтобы пуще растравить в Дарнлее обиду. А он уже и
без того не владеет собой; у него уже и без того какой-то ералаш в голове из-за
вечно грызущего чувства неполноценности — и вспыхнувшее подозрение его
ослепляет: огненной волной накатила ярость, как бык, устремился он на красный
лоскут, которым размахивали у него перед носом, и, унося его на себе, ринулся в
расставленную западню. Не задумываясь, дает он себя вовлечь в заговор против
собственной жены. Проходит день-другой, и Дарнлей больше всех жаждет крови
Риччо, своего бывшего друга, с которым он делил хлеб и постель, да и короной он
в немалой степени обязан приблудному итальянскому музыкантишке.
Политическое
убийство подготовляется шотландской знатью обстоятельно, как некое долгожданное
торжество. Никакой спешки и горячности под впечатлением минуты: партнеры
заранее обмениваются письменными обязательствами — на честь и совесть здесь
надежды плохи, для этого они слишком хорошо знают друг друга, — скрепляя
их по всей форме подписью и печатью, словно это не рыцарское дело, а
нотариальный акт. При всех таких злодейских начинаниях, словно при торговой
сделке, пишется на пергаменте контракт, так называемый «covenant», или «bond»,
в котором вельможные бандиты клянутся в верности друг другу до гробовой доски,
ибо только скопом, только как банда или клан дерзают они подняться на своих
властителей. На сей раз, впервые в истории Шотландии, заговорщики удостоились
невиданной чести: на их «бондах» стоит подпись короля. Между Дарнлеем и лордами
заключены два честных, добропорядочных контракта, в коих отставленный король и
обойденные бароны пункт за пунктом обязуются отнять у Марии Стюарт власть. В
первом «бонде» Дарнлей при любом исходе гарантирует заговорщикам полную
безнаказанность (shaithless), обещая лично ходатайствовать за них и защищать их
перед самой королевой. Далее он изъявляет согласие на возвращение изгнанных
лордов и на отпущение им всех провинностей (faults), как только он получит
королевскую власть, ту самую matrimonial crown, в которой Мария Стюарт так
упорно ему отказывала; кроме того, он обязуется оберегать «кирку» от малейших
посягательств. В свою очередь, заговорщики обещают во втором «бонде», или, как
выражаются коммерсанты, во взаимном обязательстве, признать за Дарнлеем всю
полноту власти, более того, в случае смерти королевы (из дальнейшего видно, что
не наобум предусмотрели они эту возможность) сохранить за ним власть. Но за
ясными, казалось бы, словами сквозит нечто, что не доходит до ушей Дарнлея, а
вот английский посол слышит то, что в тексте и за текстом, — намерение
вообще избавиться от Марии Стюарт и с помощью «несчастного случая» обезвредить
королеву заодно с ее итальянцем.
Еще не
просохли все подписи под позорной сделкой, а в Англию уже скачут гонцы
оповестить Меррея, чтоб он готовился к возвращению. Да и английский посол,
играющий в заговоре не последнюю роль, торопится упредить Елизавету о кровавом
сюрпризе, ожидающем соседнюю королеву. «Мне доподлинно известно, — писал
он уже тринадцатого февраля и, значит, задолго до убийства, — что королева
сожалеет о своем замужестве и ненавидит как его, так и все их племя. Известно
мне также, что он подозревает, будто кто-то охотится в его владениях (partaker
in play and game) и у них с отцом состряпан некий комплот — они намерены
захватить власть против ее воли. Известно мне, что, ежели все у них сойдет
успешно, Давиду с согласия короля не далее как на той неделе перережут глотку».
Но соглядатай Елизаветы, по всему видно, посвящен и в более сокровенные помыслы
заговорщиков: «Дошли до меня слухи и о делах более страшных, будто покушение
готовится и против ее особы». Письмо показывает со всей достоверностью, что
заговор ставил себе куда более обширные цели, чем сочли нужным рассказать
дурачку Дарнлею его сообщники, что меч, занесенный якобы над одним только
Риччо, метит и в Марию Стюарт, и жизни ее угрожает, пожалуй, не меньшая опасность,
чем жизни ее секретаря. Бесноватый Дарнлей — ибо никто не превзойдет лютостью
труса, почувствовавшего за собой какую-то силу, — жаждет особенно
изощренной мести человеку, похитившему у него государственную печать и доверие
его супруги. Для посрамления непокорной он требует, чтобы убийство свершилось у
нее на глазах — бредовая идея труса, который надеется «примерным наказанием»
сломить строптивый дух ослушницы и зрелищем зверского насилия усмирить женщину,
его презирающую, По личному желанию короля решено и в самом деле произвести расправу
в покоях беременной королевы, назначив 9 марта как наиболее подходящий день:
гнусность исполнения должна превзойти даже низость замысла.
В то
время как Елизавета и ее министры уже много недель как посвящены во все
подробности заговора (она, однако, забывает остеречь «сестрицу»), в то время
как Меррей держит на границе оседланных лошадей, а Джон Нокс готовит проповедь,
где прославляет свершившееся убийство как деяние, «заслуживающее всяческой
хвалы» («most worthly of all praise»), всеми преданная Мария Стюарт и не
подозревает о готовящемся покушении. Как раз за последние дни Дарнлей (предательство
вдвойне презренно своим притворством) на удивление кроток, и ничто не
предвещает ей ночи ужасов и роковых предопределений на долгие, долгие годы —
ночи, что наступит вслед за гаснущим вечером 9 марта. Риччо, правда, получил
остережение, писанное незнакомой рукой, но не обратил на него внимания, так
как, желая усыпить его недоверие, Дарнлей после обеда предлагает ему партию в
мяч; весело и беспечно откликается итальянец на зов своего бывшего доброго
Друга.
Тем
временем спустился вечер. Мария Стюарт, как всегда, распорядилась сервировать
ужин в малой башенной комнате, смежной с ее опочивальней, во втором этаже; это
— небольшое помещение, где собираются только самые близкие. Вот они
расположились в тесной привычной компании, несколько дворян и сводная сестра
Марии Стюарт, окружая тяжелый дубовый стол, освещенный свечами в серебряных
жирандолях. Против королевы, богато разодетый, словно знатный вельможа, сидит
Давид Риччо, в шляпе a la mode de France[94],
в узорчатом кафтане с меховой опушкой; он острит и развлекает общество, а после
ужина они немного помузицируют или еще как-нибудь с приятностью проведут время.
Поначалу никого не удивляет, что занавес, скрывающий вход в королевскую опочивальню,
отдергивается и входит Дарнлей, король и муж; все встают, редкому гостю
освобождают место за тесным столом, рядом с его супругой, он осторожно обнимает
ее и запечатлевает на ее губах иудин поцелуй. Оживленная беседа не смолкла,
ласково, радушно бренчат тарелки, позванивают стаканы.
И тут
снова поднимается занавес. Но на этот раз все вскакивают в удивлении, в досаде,
испуге: на пороге, словно черный ангел, в полном вооружении стоит с обнаженным
мечом в руке один из заговорщиков, лорд Патрик Рутвен, которого все боятся и
считают чернокнижником. Сегодня его бледное лицо кажется восковым; хворый, в
горячке, встал он с одра болезни, чтоб не упустить столь славного дела.
Неумолимо оглядывают всех его налитые кровью глаза. Охваченная недобрым предчувствием,
королева — ибо никому, кроме ее мужа, не разрешено пользоваться потайной витой
лесенкой, что ведет в опочивальню, — грозно спрашивает, кто позволил ему
войти без доклада. Хладнокровно и сдержанно возражает Рутвен, что ни ей, ни
кому другому нечего опасаться. Он явился сюда только ради «yonder poltroon
David»[95].
Риччо
бледнеет под своей роскошной шляпой и конвульсивно хватается за стол. Он понял,
что его ждет. Только его госпожа, только Мария Стюарт может его спасти, король
не делает и попытки указать наглецу на дверь, а сидит, безучастный и смущенный,
как будто это его не касается. И Мария Стюарт действительно заступается за
него. Она спрашивает, в чем обвиняют Риччо, какое он совершил преступление.
Рутвен
только презрительно пожимает плечами.
— Спросите
у вашего мужа. «Ask your husband».
Мария
Стюарт невольно поворачивается к Дарнлею; Но в решительную минуту это ничтожество,
которое уже неделями только и делает, что призывает к убийству, сразу
съеживается. Он не решается открыто и прямо присоединиться к своим сотоварищам.
— Ничего
я не знаю, — мямлит он смущенно и прячет глаза.
Но из-за
занавеса снова доносятся гулкие шаги и бряцание оружия. Заговорщики гуськом поднялись
по тесной лестнице, и теперь их латы железной стеной преграждают Риччо выход.
Бежать невозможно. И Мария Стюарт пускается в переговоры, чтобы выручить
верного слугу. Если Давид в чем виноват, она сама привлечет его к суду, и он
ответит перед дворянами в парламенте, а сейчас, приказывает она, пусть Рутвен и
прочие очистят ее покои. Но бунтовщики не внемлют. Рутвен двинулся к
помертвевшему Риччо, чтобы схватить его, но тут кто-то накинул на итальянца
петлю и потащил его к выходу. В поднявшейся суматохе перевернулся стол и
погасли свечи. Слабосильный безоружный Риччо, никакой не герой и не воин,
вцепился в платье королевы, пронзительно звучит в общей свалке его истошный,
дикий вопль:
— Madonna,
io sono morto, giustizia, giustizia![96]
Кто-то
из заговорщиков поднимает пистолет и наводит на королеву, и он, конечно,
спустил бы курок, как предусмотрено заговором, если бы его не толкнул под руку
сосед, а Дарнлей, обхватив руками отяжелевшее тело беременной женщины, держит
ее, пока остальные тащат из комнаты дико визжащую и отчаянно сопротивляющуюся
жертву. Последний раз, когда его волокут через спальню королевы, делает Риччо
попытку ухватиться за ножку кровати, и бессильная Мария Стюарт слышит его крики
о помощи, но тут ему безжалостно обрубают пальцы и тащат в соседнюю парадную
палату. Там они, озверев, наваливаются на него. Предполагалось будто бы только
взять секретаря под стражу и на следующий день всенародно повесить на рыночной
площади. Но заговорщики обезумели от возбуждения. Взапуски набрасываются они на
беззащитного итальянца, снова и снова колют его кинжалами; пролитая кровь
ударила им в голову; не помня себя от ярости, они и друг другу наносят раны.
Весь пол в крови, а они все не унимаются. И только когда судорожно бьющееся
тело, истекающее кровью из пятидесяти с лишним ран, совсем затихает и последнее
дыхание жизни уходит из него, они отваливаются от своей жертвы. Истерзанной
жуткой грудой мяса выбрасывают они из окна во двор труп того, кто был верным
другом Марии Стюарт.
В
неистовстве ловит Мария Стюарт каждый предсмертный вопль преданного слуги. Она
не в состоянии оторваться неповоротливым телом от ненавистного мужа, держащего
ее в железных тисках, но всеми силами неукротимой души восстает она против
неслыханного унижения, которое собственные подданные нанесли ей в ее доме.
Дарнлей может стиснуть ей руки, но не зажать рот. Задыхаясь, в безрассудной
ярости, она выплевывает ему в лицо всю смертельную ненависть. Изменником
называет она его и сыном изменника и казните, себя за то, что такое ничтожество
возвела на трон: если до сих пор в этой женской душе жила только смутная
антипатия к мужу, то теперь это чувство крепнет и кристаллизуется в
непреходящее, неугасимое презрение. Тщетно старается Дарнлей перед ней
оправдаться. Он осыпает ее упреками: сколько раз за эти месяцы она не
подпускала его к себе, да она этому чужаку Риччо уделяла куда больше времени,
чем ему, своему супругу. Но и Рутвена, который входит в комнату и, обессиленный
кровавой работой, в изнеможении падает на стул, не щадит Мария Стюарт, она
угрожает ему великими опалами. Будь Дарнлей способен читать в ее взоре, он
ужаснулся бы убийственной ненависти, которая неприкрыто в нем пылает. Да, будь
он хоть немного прозорливее и умнее, он должен был бы почуять всю опасность ее
клятвы, что она больше не считает его своим мужем и не даст себе ни сна, ни
покоя, пока он не узнает таких же страданий, какие рвут ее сердце на части. Но
нет, Дарнлей способен лишь на мизерные, плоские чувства и побуждения, он не в
силах понять, как смертельно ранена ее гордость, он и не подозревает, что она в
этот миг произнесла ему приговор. Дряблая душонка, мелкий изменник, позволяющий
каждому водить себя за нос, он воображает, что теперь, когда эта обессилевшая
женщина умолкла и как будто безвольно дает увести себя в опочивальню, ее гордый
дух окончательно сломлен и она снова ему покорится. Но скоро он узнает, что
ненависть, умеющая молчать, во сто крат опаснее, чем самые неистовые речи, и
что тот, кто смертельно оскорбит эту неукротимую женщину, сам себя обречет
смерти.
Крики
итальянца о помощи, звон оружия в королевских покоях всполошили весь замок: с обнаженными
мечами выскакивают из своих спален верные слуги королевы — Босуэл и Хантлей. Но
заговорщики и это предусмотрели: Холируд со всех сторон окружили их вооруженные
слуги, они сторожат подступы к замку, чтобы никто из города не подоспел на
выручку королеве. Босуэлу и Хантлею ничего не остается — столько же для
спасения своей жизни, сколько и для того, чтобы вызвать подмогу, — как
выскочить в окно. Когда они прискакали с тревожной вестью, что жизнь королевы в
опасности, городской профос[97]
приказал бить в набат, и встревоженные обыватели поспешили за городские ворота,
стремясь увидеть свою королеву и говорить с ней. Но, вместо королевы к ним
выходит Дарнлей и облыжно заверяет, будто ничего не случилось: просто в замке
пойман иностранный шпион, намеревавшийся ввести в страну испанские войска, но с
ним удалось расправиться. Профос, конечно, не смеет усомниться в королевском
слове: притихнув, расходятся честные горожане по домам, а между тем Мария
Стюарт, которая тщетно рвалась передать весточку своим верным, надежно заперта
у себя в опочивальне. Ни придворным дамам, ни горничным и камеристкам нет
доступа к королеве, у всех дверей и ворот замка выставлен тройной караул:
впервые в жизни в эту ночь Мария Стюарт превращается из королевы в пленницу.
Заговор удался на славу. Во дворе замка валяется в луже крови истерзанный труп
ее лучшего слуги, шайку ее врагов возглавляет король Шотландии в чаянии
завладеть обещанной короной, тогда как сама она не вправе переступить порог
своей опочивальни. В мгновение сброшена она с головокружительной высоты, бессильная,
всеми покинутая, без помощников и друзей, окруженная ненавистью и насмешкой.
Казалось, все рухнуло для нее в эту страшную ночь. Но под молотом судьбы только
крепнет и закаляется пламенное сердце. Всегда и неизменно, когда на карту
поставлена ее свобода, ее честь и корона, Мария Стюарт обретает в себе больше
сил, чем найдется у всех ее помощников и слуг, вместе взятых.
|


