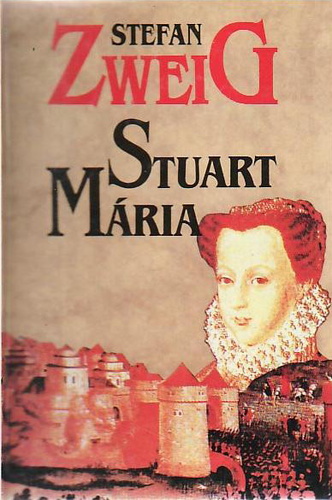
 Увеличить Увеличить |
12. Дорога к убийству
(22 января — 9 февраля
1567)
И вот
начинается самая зловещая строфа баллады о Марии Стюарт. Поездка в Глазго, из
которой она привезла еще больного супруга прямо в логово заговорщиков, —
один из наиболее сомнительных ее поступков. Снова и снова напрашивается вопрос:
была ли Мария Стюарт и вправду под стать древним Атридам — Клитемнестре, с
лицемерной заботливостью готовящей вернувшемуся домой супругу Агамемнону теплую
ванну, меж тем как ее возлюбленный убийца Эгисф затаился в тени с отточенным
топором? Или же она сродни леди Макбет, кроткими и льстивыми словами провожающей
ко сну короля Дункана, которого Макбет потом зарежет во сне, — одна из тех
демонических преступниц, какими великая страсть порой делает самых отважных и
любящих женщин? А может быть, правильнее мыслить ее безвольной рабой жестокого
сутенера Босуэла, движущейся в каком-то трансе исполнительницей чужой
непререкаемой воли, наивно послушной марионеткой и не подозревающей о страшных
приготовлениях за ее спиной? Чувство отказывается верить такому злодейству,
обвинить в сокрытии и соучастии женщину, которая до сих пор была преисполнена
человечности. Вновь и вновь ищешь другого, более гуманного и незлобивого
истолкования ее поездки в Глазго. Опять и опять откладываешь в сторону, как
пристрастные, показания и документы, обличающие Марию Стюарт, и с
чистосердечной готовностью и желанием дать себя убедить проверяешь те
оправдательные доводы, которые ее защитникам удалось найти или изобрести. Увы,
при всем желании отнестись к ним с доверием эти адвокатские доводы никого
убедить не могут: звено совершенного злодеяния без швов включается в цепь
событий, в то время как домыслы защитников при ближайшем рассмотрении
рассыпаются в руках трухой.
Ибо как
предположить, что нежная забота погнала Марию Стюарт к постели больного Дарнлея
и что она забрала его из безопасного убежища в надежде создать ему дома лучший
уход? Ведь уже несколько месяцев супруги живут врозь, как чужие. Присутствие
Дарнлея ей несносно; как ни молит он, чтобы Мария Стюарт делила с ним
супружеское ложе, его законные права попираются. Испанский, английский и
французский послы в своих донесениях давно говорят о наступившем охлаждении как
о чем-то бесспорном и само собой разумеющемся. Лорды официально начали дело о
разводе, а про себя помышляют и о менее безобидной развязке. Недавние любовники
так равнодушны друг к другу, что, даже услышав, что Мария Стюарт заболела в
Джедборо и находится при смерти, преданный супруг отнюдь не спешит проститься с
той, которую уже готовят к принятию святых даров. С помощью самой сильной лупы
не обнаружите вы в этом союзе и ниточки любви и атома нежности; а значит,
предположение, будто горячая забота подвигнула Марию Стюарт на эту поездку,
отпадает как несостоятельное.
Однако —
и это последний довод ее защитников à tout prix[118] — быть может, Мария
Стюарт, отправляясь в Глазго, хотела покончить с злополучной ссорою? Разве не
могла она ехать к больному искать примирения? К сожалению, и этот наипоследний
благоприятный довод опровергается документом за собственноручной ее подписью.
Всего за день до отъезда в Глазго в своем письме к архиепископу Битону — неосторожная
и не думала, когда писала письма, что они будут свидетельствовать против
нее, — Мария Стюарт дала волю своему гневу и раздражению против Дарнлея.
«Что до короля, нашего супруга, то одному богу известно, как мы всегда к нему
относились, но и богу и всему свету известны его происки и козни против нашей
особы; все наши подданные были тому свидетелями, и я нисколько не сомневаюсь,
что в душе они осуждают его». Слышен ли здесь кроткий голос миролюбия? Это ли
настроение преданной жены, которая в смятении и тревоге спешит к больному мужу?
И второе неопровержимое обстоятельство, явно не говорящее в ее пользу, —
Мария Стюарт предпринимает эту поездку не просто с тем, чтобы проведать Дарнлея
и вернуться домой, а с твердым намерением тут же увезти его в Эдинбург: опять
чрезмерная забота, которой, пожалуй, не веришь. Ибо не противно ли всем законам
медицины и здравого смысла вытащить оспенного больного, в горячке, с еще не
опавшим лицом, из постели и везти его зимой, в январе, целых два дня в открытом
экипаже, по лютому морозу. А ведь Мария Стюарт даже телегу прихватила с собой,
чтобы Дарнлею некуда было податься, так не терпелось ей со всею поспешностью
отвезти его в Эдинбург, где заговор против него был уже в полном ходу.
А может
быть, Мария Стюарт — лучше лишний раз прислушаться к доводам ее защитников,
шутка ли: несправедливо обвинить человека в убийстве! — может быть, она не
знала о готовящемся покушении? Волею судеб и это сомнение отпадает благодаря
дошедшему до нас письму Арчибалда Дугласа на имя Марии Стюарт. Один из главных
заговорщиков, Арчибалд Дуглас, лично посетил королеву во время ее поездки в
Глазго, чтобы добиться от нее открытого одобрения готовящемуся заговору убийц.
И хоть он не вырвал у, нее ни согласия, ни каких-либо гарантий или обещаний, как
могла супруга, узнав, что за крамола куется, утаить этот разговор от короля?
Как было не предупредить Дарнлея? Более того, как можно было, убедившись в
полной мере, что против него что-то затевается, настаивать на его возвращении в
это осиное гнездо? В подобных случаях умолчание — больше, чем укрывательство,
это — пассивное, скрытое пособничество, ибо тому, кто знает о готовящемся
преступлении и не стремится его предотвратить, зачтется в вину самое его
равнодушие. В лучшем случае о Марии Стюарт, можно сказать, что она не знала о
готовящемся преступлении потому, что не хотела знать, что она отворачивалась и
закрывала глаза, дабы иметь возможность заявить под присягой; мое дело сторона.
Итак,
чувство, что Мария Стюарт в какой-то мере виновна в устранении своего мужа, не
покидает беспристрастного исследователя; известным оправданием ей могла бы
послужить разве что порабощенная воля, но никак не полное неведение. Ибо не с
легкой душой выполняет свою миссию эта раба, не дерзко, не в трезвом рассудке и
по собственной воле, а повинуясь чужой воле, чужому приказу. Не с холодным,
коварным, циничным расчетом отправилась Мария Стюарт в Глазго, чтобы выманить
Дарнлея из его убежища, — в решительную минуту, как свидетельствуют письма
из ларца, ею овладели ужас и отвращение перед навязанной ей ролью. Разумеется,
они с Босуэлом заранее обсудили, как забрать Дарнлея домой, но письмо с
непреложной ясностью показывает, что стоило Марии Стюарт очутиться на
расстоянии дня пути от ее господина и в какой-то мере избавиться от гипноза его
присутствия, как в этой magna peccatrix[119]
внезапно заговорила усыпленная совесть. Всегда бывает так, что человека,
которого толкает на преступление таинственная сила, сразу же отличишь от
подлинного преступника — преступника из внутренних побуждений, преступление по
злому и преднамеренному умыслу — от crime passionel[120], и деяние Марии Стюарт
— быть может, один из самых ярких случаев преступления, совершенного не по
личному почину, а под давлением чужой, более сильной воли. В ту минуту, когда
Мария Стюарт должна уже привести в исполнение обсужденный и принятый план,
когда она оказывается лицом к лицу с жертвою, которую ей велено завлечь на
бойню, в ней вдруг умолкает чувство ненависти и мести, и в душе ее исконно
человечное вступает в борьбу с бесчеловечностью приказа. Запоздалая и тщетная
борьба! Ведь Мария Стюарт в этом злодеянии не только коварно подкрадывающийся
охотник, но и затравленная дичь. Все время чувствует она за спиной бич, который
безжалостно гонит ее вперед. Она трепещет перед гневом жестокого сутенера,
зная, что он не простит ей, если она не приведет ему намеченной жертвы, но и
трепещет потерять ослушанием его любовь. И только то, что безвольная тяготится
в душе своим злодейством, что беззащитная восстает против навязанного ей
поручения, — только это позволяет если не простить ее поступок по
справедливости, то хотя бы понять его по-человечески.
В этом,
более простительном свете ужасное злодеяние предстает нам в знаменитом письме,
которое она пишет любовнику из дома больного Дарнлея; близорукие защитники
Марии Стюарт напрасно чураются этого письма, так как только оно проливает на ее
омерзительный поступок умиротворяющий отблеск человечности. Письмо, словно
пробоина в стене, приоткрывает нам страшные часы глазговской трагедии. Время за
полночь, Мария Стюарт в ночном одеянии сидит у столика в чужой комнате. Ярко
пылает огонь в камине, причудливые тени пляшут по высоким холодным стенам. Но
пламя не согревает пустынной комнаты, не дает оно тепла и зябнущей душе. Снова
и снова мелкая дрожь пробегает по спине полуодетой женщины: так холодно, и она
устала, уснуть бы, но ей не спится, она слишком взволнована и возбуждена.
Столько страшного и тяжелого пережито за последние недели, за последние часы,
все нервы горят и трепещут до болезненно чувствительных кончиков. Содрогаясь от
ужаса перед тем, что ей предстоит, но безропотно послушная господину своей
воли, духовная пленница Босуэла предприняла эту недобрую поездку, чтобы
выманить своего супруга из верного убежища на еще более верную смерть. Немало
трудностей встретилось ей. Уже перед городскими воротами остановил ее гонец
Ленокса, отца Дарнлея. Старику подозрительно, что женщина, уже многие месяцы с
лютой ненавистью избегающая его сына, вдруг заботливо спешит к ложу больного.
Старые люди чувствуют приближение несчастья, а может быть, Ленокс вспомнил, что
всякий раз, как Мария Стюарт искала расположения его сына, она таила в душе
какую-то корыстную цель. С трудом отразив испытующие вопросы посланца,
счастливо добирается она до постели больного, чтобы и здесь — неизбежное
следствие двойной игры — наткнуться на недоверие. Зачем она привезла с собой
телегу, первым делом допытывается Дарнлей, и в глазах его мечутся искорки тревоги.
И ей приходится крепко зажать сердце в кулак, чтобы под градом его вопросов не
выдать себя ни единой запинкой, не побледнеть и не покраснеть. Но страх перед
Босуэлом научил ее притворству. Ласковыми руками и льстивыми речами убаюкивает
она недоверие Дарнлея, постепенно, по ниточке выматывает у него последнюю волю
и всучает взамен свою, сильнейшую. Уже к вечеру первого дня половина дела
сделана.
И вот
она сидит ночью одна в полутемной комнате, пустой и холодной, свечи проливают
призрачный свет, а кругом такая немая тишина, что слышно бормотание самых
сокровенных ее мыслей и вздохи растоптанной совести. Нет ей ни сна, ни покоя,
безмерно томит ее желание разделить с кем-нибудь тяжесть, что гнетет душу,
перемолвиться словом в этот час неизбывной тоски и муки. И так как его нет
рядом, единственного на земле, с кем она может говорить о несказанном, чего
никто знать не должен, кроме него, о том страшном злодействе, в котором она
боится признаться себе самой, то она берет подвернувшиеся ей листки бумаги и
садится писать. Письму нет конца. Она не закончит его ни в эту ночь, ни на
следующий день, а только на вторую ночь: здесь человек, совершая преступление,
единоборствует со своей совестью. В глубокой усталости, в страшном смятении написаны
эти строки, где все путается и мешается в каком-то отупении и изнеможении
чувств — глупость и глубокомыслие, вопль души, пустая болтовня и стон отчаяния,
а черные мысли, как летучие мыши, шныряют вокруг, вычерчивая сумасшедшие
зигзаги. То это лепет о незначащих мелочах, то страшным воплем прорывается стон
истерзанной совести, вспыхивает ненависть, но сострадание заглушает ее, и
неизменно поверх всего, широко разливаясь и пламенея, катится бурлящий поток
любви к тому единственному, чья воля тяготеет над ней, чья рука столкнула ее в
эту бездну. Внезапно она замечает, что кончилась бумага. Тогда она продолжает
писать на каком-то начатом счете, лишь бы дальше, дальше, все дальше, только бы
этот ужас не задушил ее, не удавила тишина, цепляться за него хотя бы словами,
за того, к кому она неразрывно прикована, — кандальник к кандальнику,
кровь к крови. Но в то время как перо в ее трясущейся руке, словно своей волею,
летит по бумаге, она замечает, что все в письме сказано не так, как надо было
сказать, что нет у нее сил укротить свои мысли, привести их в порядок. Она
улавливает это будто другой половиной сознания и заклинает Босуэла — пусть
дважды прочтет ее письмо. Но именно потому, что в письме, насчитывающем три
тысячи слов, отсутствует путеводная нить дневного сознания и разума, что мысли,
в нем путаются и кружат в каком-то смутном мелькании, — именно поэтому оно
становится своеобразным, единственным в своем роде документом человеческой
души. Ибо здесь говорит не разумное существо, нет, в трансе усталости и
лихорадки здесь приоткрывается обычно недоступное взору подсознание, нагое
чувство, сбросившее последний покров скромности и стыда. Явственные голоса и
смутные подголоски, трезвые мысли и такие, которые она не отважилась бы
высказать в полном разуме, сменяют друг друга в этой сумятице чувств. То она
повторяется, то противоречит себе, все хаотически волнуется и клокочет в
кипении и бурлении страсти. Ни разу или, быть может, только считанные разы
доходило до нас признание, в котором духовное и душевное перевозбуждение в
момент совершаемого преступления было бы раскрыто с такой полнотою, — нет,
никакой Бьюкенен, никакой Мэйтленд, никто из этих архиумников не мог бы с таким
знанием дела, с такой проницательностью, с такой магической точностью измыслить
горячечный монолог смятенного сердца, ужасающее положение женщины, которая,
совершая тяжкое преступление, не знает иного средства спастись от терзаний
совести, как писать и писать своему возлюбленному, стараясь потеряться,
забыться, оправдаться и все объяснить, которая убегает в это письмо, чтобы в
окружающей тишине не слышать, как бешено колотится в груди ее сердце. И снова
невольно вспоминается леди Макбет; так же в развевающихся ночных одеждах
блуждает та по темному замку, преследуемая и теснимая страшными мыслями, и,
подобно сомнамбуле, выдает свое преступление в потрясающем монологе. Только
Шекспиры, только Достоевские способны создавать такие образы, а также их
величайшая наставница — Действительность .
Как
великолепно уже самое вступление, трогающее сердце до глубины, уже этот
начальный затакт: «Я устала, меня клонит в сон, но я не могу не писать, пока
есть бумага… Прости мне эти каракули, если чего не разберешь, пусть сердце тебе
подскажет… И все же я рада, что могу писать тебе, пока все кругом спят, мне же
все равно не уснуть, так рвется все мое существо к тебе, в твои объятия, жизнь
моя, мой ненаглядный». С неотразимой проникновенностью рассказывает она, как
бедняга Дарнлей обрадовался ее неожиданному приезду; кажется, видишь его перед
собой, бедного юношу с еще воспаленным от сильного жара, еще не очистившимся от
струпьев лицом. Все эти ночи и дни он лежал один-одинешенек и терзался мыслью,
что она, которой Он предался душой и телом, так жестоко оттолкнула его и
прогнала от себя. И вот она здесь, его прекрасная, юная возлюбленная, эта
ласковая женщина снова у его ложа. Бедный глупец так счастлив, что не верит
себе: «а вдруг это сон», он так рад ее видеть, «что боится умереть от счастья».
Минутами в нем, правда, вскипает недоверие, свербят незажившие раны. Все
произошло так внезапно, что кажется просто невозможным, — и все же это
мелкотравчатое сердце, как часто оно ни бывало обмануто, бессильно заподозрить
столь грандиозный обман. Слабому человеку сладко надеяться и верить,
тщеславному — легко вообразить, что он любим. Понадобилась самая малость, чтобы
Дарнлей растрогался и размяк — он снова ее раб и снова просит, как в ночь после
убийства Риччо, прощения за все обиды, что он ей причинил. «Мало ли твоих
подданных против тебя согрешило, и ты всех простила, а ведь я еще так молол. Ты
скажешь, что не раз меня прощала, а я снова впадаю во все те же ошибки. Но
разве не бывает, что человек в мои годы, послушавшись дурного совета, и второй
и третий раз впадает во все те же ошибки, нарушает данное слово, но зато уж
потом, наученный горьким опытом, окончательно берется за ум? Если ты простишь
меня, клянусь, я не заставлю тебя жалеть об этом. И мне ничего от тебя не
нужно, только чтобы мы, как верные супруги, делили кров и ложе, а если ты не
захочешь меня простить, лучше мне никогда не встать с этой постели… Бог видит,
как жестоко я наказан за то, что сотворил себе кумира, и ни о чем не могу
думать, кроме тебя одной…»
И снова
письмо приоткрывает нам далекую комнату, погруженную в полумрак. Мария Стюарт
сидит у изголовья больного и внемлет этому взрыву признаний, этим смиренным
клятвам. Пришло ее время торжествовать, план удался на славу, опять она обвела
вокруг пальца этого недалекого мальчика. Но ей слишком стыдно своего обмана,
чтобы радоваться, в самый разгар вероломных хлопот душит ее отвращение к
совершаемой низости. Помрачневшая, пряча глаза, со смятенной душой, сидит она у
постели больного, и даже Дарнлей замечает, что его милую гнетет какая-то темная
тайна. Бедный околпаченный дурачок старается — не правда ли, гениальная
ситуация! — утешить обманщицу, предательницу, он хочет вселить в нее
бодрость, веселье, надежду. Он молит ее остаться с ним эту ночь; злосчастный
глупец, он снова бредит любовью и нежностью. Страшно чувствовать через письмо,
как слабый мальчик опять доверчиво льнет к ней, как он уже в ней уверен. Нет,
он не может не глядеть на нее, безгранично наслаждается он возобновленной
близостью, которой так долго был лишен. Он просит ее своими руками нарезать ему
мясо и говорит, говорит и выбалтывает по наивности все свои секреты, называет
поименно своих дружков и соглядатаев и, ничего не ведая о ее отношениях с
Босуэлом, признается в лютой ненависти к Мэйтленду и Босуэлу. И — да это и
вполне естественно — чем доверчивее, чем самозабвеннее он выдает себя, тем
больше затрудняет он этой женщине задачу предать его, беспомощного, наивного
несмышленыша. Против желания, она растрогана, смущена легковерием, бессилием
жертвы. Лишь величайшим напряжением воли продолжает она играть эту презренную
комедию. «Никогда я от него не слыхала более разумных и кротких речей, и кабы я
не знала, что сердце у него из воска, а мое не было бы тверже алмаза, ничей
приказ, исключая полученного из твоих рук, не приневолил бы меня побороть
сострадание». Видно, что она уже не чувствует ненависти к бедняге, который
тянется к ней воспаленным лицом, пожирает ее голодными нежными глазами; начисто
забыла она все зло, которое глупый лгунишка ей причинил, ей от души хотелось бы
спасти его. В порыве возмущения она всю вину возлагает на Босуэла: «Никогда бы
я не пошла на это, чтобы отомстить за себя». Только во имя любви, и ничего
другого, совершит она столь мерзостный обман, употребив во зло детское доверие.
Великолепно звучит ворвавшийся у нее вопль протеста: «Ты вынуждаешь меня к
притворству, которое внушает мне ужас и отвращение, ты навязываешь мне роль
предательницы. Но помни, если бы не то, что я хочу слушаться тебя во всем, я
предпочла бы умереть. Сердце у меня обливается кровью».
Однако
раб не может бороться. Он может только стонать, когда свирепый бич гонит его
вперед. С покорной жалобой клонит она голову перед своим господином: «Горе мне!
Никогда и никого я не обманывала, а теперь во всем покорна твоей воле. Намекни
хоть словом, чего ты от меня хочешь, и, что бы со мной ни стряслось, я
покорюсь. Подумай также, не надежнее ли было бы прибегнуть к какому-нибудь
снадобью, он собирается в Крэгмиллер на тамошние воды и купания». Очевидно, ей
хотелось бы измыслить для несчастного более легкую кончину, избежать грубого,
грязного насилия; если бы она хоть в какой-то мере принадлежала себе и не была
всецело предана Босуэлу, останься в ней хоть капля душевных сил, хоть искра
моральной самостоятельности, она бы непременно — это чувствуется — спасла
Дарнлея. Но она не отваживается на ослушание, так как страшится потерять
Босуэла и вместе с тем — гениальный психологический штрих, какого не придумать
ни одному писателю, — страшится, как бы Босуэл не стал ее презирать за то,
что она согласилась на такую низость. С мольбой простирает она руки, умоляя,
чтобы он за это «не стал меньше уважать ее, так как он всему причина». На
коленях взывает она: пусть вознаградит любовью ее нынешние муки. «Всем жертвую
я — честью, совестью, счастьем и величием, помни же это и не поддавайся на
уговоры своего лживого шурина, ополчающего тебя против самой верной
возлюбленной, какая у тебя когда-либо была или будет. И не гляди, что она (жена
Босуэла) обливается лживыми слезами, а воззри на меня и на то деяние, на
которое я иду против воли, единственно, чтобы заслужить ее место, ради которого
я готова попрать собственную природу. И да простит мне бог, и да ниспошлет он
тебе, бесценный друг, всякого счастья и без счета милостей, каких тебе желает
твоя всеподданнейшая и преданнейшая возлюбленная, та, что надеется вскоре стать
для тебя чем-то большим в награду за свои муки». Тот, кто непредвзятой душой
слышит в этих словах голос измученного, исстрадавшегося сердца, не назовет
несчастную убийцей, хотя все, что она делает в эти ночи и дни, ведет к
убийству. Ибо чувствуется: в тысячу раз сильней ее воли ее неволя, ее
отвращение и протест. Быть может, в иные часы эта женщина ближе к самоубийству,
чем к убийству. Но такова судьба того, кто отдал себя в кабалу: раз отказавшись
от своей воли, он уже не волен сам избрать свой путь. Он может лишь служить и
повиноваться. И так, спотыкаясь, оступаясь, бредет она все вперед, невольница
своей страсти, бессознательная и в то же время до ужаса сознательная сомнамбула
своего чувства, увлекаемая в бездну злодеяния.
Уже на
следующий день Мария Стюарт выполнила целиком и полностью все, что ей надлежало
сделать; наиболее деликатная, наиболее рискованная часть задачи ей счастливо
удалась. Королева усыпила подозрения Дарнлея — бедного недалекого малого не
узнать, он заметно повеселел, приободрился, у него уверенный и даже счастливый
вид. Еще не оправившийся, ослабевший, с изрытым оспинами лицом, он даже
пытается с ней нежничать. Ему бы только обниматься и целоваться, и Марии Стюарт
стоит величайших усилий, поборов гадливость, сдерживать его нетерпение.
Послушный ее желаниям — так же как она послушна желаниям Босуэла, —
невольник невольницы, он объявляет, что согласен вернуться с ней в Эдинбург.
Еще
больной, закрыв лицо тонким суконным покрывалом, чтобы никто не видел, как оно
обезображено, он доверчиво разрешает перенести себя из надежного родительского
замка в ожидающую его телегу. И вот наконец жертва на пути к мяснику. Грубой,
кровавой частью работы займется Босуэл, этому отъявленному — цинику она дастся
неизмеримо легче, чем далось Марии Стюарт ее предательство.
Медленно
катится телега под эскортом верховых по зимней морозной дороге — во вновь обретенном
согласии после долгих месяцев непримиримой вражды возвращается в Эдинбург
королевская чета. В Эдинбург, но куда же именно? Разумеется, в Холирудский
замок, скажете вы, в королевскую резиденцию, в уютные княжеские палаты. Но нет,
Босуэл, всемогущий, распорядился иначе. Король не вернется к себе в замок —
якобы потому, что не прошла еще опасность заразы. Ну тогда, значит, в Стирлинг
или в Эдинбургский замок, эту гордую, неприступную крепость? В крайнем случае
он заедет погостить в какой-нибудь другой княжеский дом, хотя бы во дворец епископа.
Опять-таки нет! В силу каких-то сугубо подозрительных обстоятельств выбор
падает на весьма невзрачный, одиноко стоящий дом, о котором до сей поры не
могло быть и речи, — отнюдь не господские хоромы, к тому же и
расположенный в подозрительной местности, за городскими стенами, среди садов и
пустырей, — дом, полуразрушенный и годами пустовавший, дом, который трудно
охранять и защищать, — странный и знаменательный выбор! Поневоле спросишь,
кому взбрело в голову отвести для короля это подозрительно уединенное жилье в
Керк о’Филде, по соседству с пользующейся дурной славой Воровской слободой
(Thieves Row). И опять-таки здесь замешан Босуэл, ведь он нынче все и вся в
Шотландии (all in all). Повсюду и везде натыкаемся мы в таинственном лабиринте
на все ту же красную нить. Повсюду и везде — в письмах, документах, дознаниях —
неизменно к нему ведет кровавый след.
Этот
невзрачный, недостойный короля, затерянный среди пустырей домик, к которому
прилегает только одна усадьба, принадлежащая кому-то из приспешников Босуэла,
состоит всего лишь из прихожей и четырех комнат. Внизу помещается
импровизированная спальня королевы, которой вдруг пришла охота ходить за
больным супругом, хотя совсем недавно она и слышать о нем не хотела; вторая
комната отведена ее женской прислуге. Комната побольше наверху предназначена
королю, а рядом помещение для его челядинцев. Для этих приземистых комнатушек в
подозрительном доме не желают убранства, из Холируда доставлены ковры и богатые
шпалеры, специально для короля переправляется одна из великолепных кроватей,
вывезенных Марией де Гиз из Франции, вторая ставится внизу для королевы. А уж
Мария Стюарт прямо разрывается от усердия: всемерно подчеркивает она свою
нежную заботу о Дарнлее. По нескольку раз на дню навещает она его со всей свитой,
не давая скучать, это она-то, которая — не мешает лишений раз напомнить — уже
много месяцев как бежит его, точно зачумленного. Три ночи — с четвертого по
седьмое февраля — она, покинув свой удобный дворец, ночует в этом уединенном
доме. Пусть каждый в Эдинбурге убедится, что король и королева снова живут душа
в душу. Нарочито и даже, можно сказать, навязчиво афишируется это
благоденствие, это задушевное согласие перед всем городом. Легко себе
представить, как неожиданный поворот в расположении королевы был воспринят
всеми, а особенно лордами, с которыми Мария Стюарт еще недавно обсуждала, как
бы ей вернее отделаться от мужа. И вдруг эта внезапная, бурная и чересчур уж
подчеркиваемая супружеская любовь! Самый догадливый из лордов, Меррей,
по-видимому, делает свои выводы — об этом явствует его дальнейшее поведение, он
ни на секунду не сомневается, что в этом на диво уединенном домике ведется
сомнительная игра, и, как истый дипломат, принимает меры.
И может
быть, только один человек во всем городе, во всей стране свято верит в
изменившееся расположение королевы: Дарнлей, незадачливый супруг. Его тщеславию
льстит ее забота; гордостью видит он, что лорды, еще недавно с презрением от
него отворачивавшиеся, спешат к его постели с поклонами, с участливыми минами.
Исполненный признательности, докладывает он седьмого февраля отцу в письме, как
поправилось его здоровье благодаря тщательному уходу королевы, которая выказала
себя на этот раз истинно любящей женой. Врачи предвещают ему скорое
выздоровление, лицо его почти очистилось, ему разрешено переехать во дворец —
на понедельник утром заказаны лошади. Еще один день, и он вернется в Холируд,
где снова будет делить с королевой bed and board[121], и наконец-то опять
воцарится в своем государстве и в ее сердце.
Но
понедельнику — десятому февраля — предшествует воскресенье — девятое
февраля, — на вечер которого в Холирудском замке назначено веселое
празднество. Двое самых верных слуг Марии Стюарт справляют свадьбу: по этому
случаю состоится пышный банкет и бал, на котором обещала быть сама королева. Но
в программе дня не только это общеизвестное событие — есть и другое, все
значение которого выяснится только впоследствии. Девятого утром Меррей внезапно
испрашивает у сестры дозволения ненадолго отлучиться, он уезжает денька на два,
на три в один из своих замков навестить заболевшую жену. А это недобрый знак.
Ибо, когда Меррей исчезает с политической арены, у него имеются на то серьезные
основания. Что бы здесь ни случилось — переворот или какое-либо трагическое
происшествие, — он всегда может потом сказать, что его при этом не было.
Тот, кто чувствителен к приближению грозы, должен был бы забеспокоиться,
увидев, как этот расчетливый, дальновидный человек спешит ретироваться, пока не
ударил гром. И года не прошло, как он с таким же невинным видом въехал в
Эдинбург наутро после убийства Риччо; и вот он уже снова уезжает как ни в чем
не бывало — в утро того самого дня, когда должно свершиться еще большее злодеяние,
предоставляя другим расхлебывать кашу, а всю честь и корысть приберегая для
себя.
И еще
один симптом, наводящий на размышление. По-видимому, королева уже сейчас приказывает
переправить из Керк о’Филда в Холируд свое пышное ложе с меховыми одеялами.
Само по Себе это распоряжение вполне уместно: ближайшую ночь, ночь долгожданного
бала, она все равно проведет в замке, а не в Керк о’Филде, а там — и конец
разлуке. Но это нетерпеливое желание скорее переправить на место драгоценное
ложе в дальнейшем, по ходу разбирательства, послужит пищей для всяких толков и
кривотолков. Правда, и после обеда и вечером ничто не предвещает трагических
событий, да и поведение Марии Стюарт ни капли не отличается от обычного. Днем
она в обществе друзей посещает выздоравливающего супруга, вечером, вместе с
Босуэлом, Хантлеем и Аргайлом, весело пирует на свадьбе своих челядинцев. А
главное, ну до чего трогательно: опять — в самом деле, до чего же
трогательно! — опять спешит она, хоть Дарнлей вот-вот вернется в Холируд,
спешит морозной зимней ночью туда, в уединенный домик Керк о’Филда. Безо
всякого прерывает оживленную застольную беседу, чтобы еще полчасика посидеть у
изголовья мужа и поболтать с ним. До одиннадцати вечера — не мешает поточнее
заметить время — засиживается Мария Стюарт в Керк о’Филде и только тогда
возвращается к себе в Холируд; в темноте ночи далеко заметна сверкающая
шумливая кавалькада, полыхают факелы, мелькают фонари, доносятся взрывы
веселого смеха. Раскрываются ворота — весь Эдинбург сможет потом
засвидетельствовать, что королева, как нежная жена, наведав больного мужа,
вернулась в Холируд, где под пение скрипок и наигрыш волынок вихрем кружатся
танцующие пары. Еще раз смешивается веселая, словоохотливая королева с толпою
свадебных гостей и только за полночь удаляется в свои покои, чтобы отойти ко
сну.
В два
часа ночи от грома содрогнулась земля. Страшный взрыв, «будто выпалили из
двадцати пяти пушек», сотряс воздух. И сразу же стало видно, как со стороны
Керк о’Филда побежали сломя голову какие-то подозрительные фигуры: что-то
ужасное, должно быть, стряслось в уединенном домике у короля. Весь город,
объятый страхом и волнением, проснулся и уже на ногах. Распахиваются городские
ворота, и в Холируд устремляются гонцы с ужасной вестью, что одинокий домик в
Керк о’Филде с королем и его челядью взлетел на воздух. Босуэла, пировавшего на
свадьбе — очевидно, чтобы обеспечить себе алиби, меж тем как его молодцы
готовили взрыв, — сонного поднимают с постели, вернее, он делает вид,
будто крепко спал. Он второпях одевается и вместе с вооруженной стражей спешит
на место преступления. Трупы Дарнлея и слуги, спавшего в его комнате, находят в
саду, в одних рубашках. Дом полностью разрушен пороховым взрывом. Установлением
этого, весьма для него, по-видимому, неожиданного и прискорбного факта Босуэл и
ограничивается. Так как существо дела известно ему лучше, чем кому-либо, он не
дает себе труда расследовать, что здесь произошло. Он приказывает подобрать
трупы и уже через каких-нибудь полчаса возвращается в замок. И здесь он может
доложить ничего не подозревающей королеве, так же, как и он, разбуженной среди
крепкого сна, один только голый факт: ее супруг, Генрих, король Шотландский,
убит неведомыми злодеями, скрывшимися неведомо куда.
|


