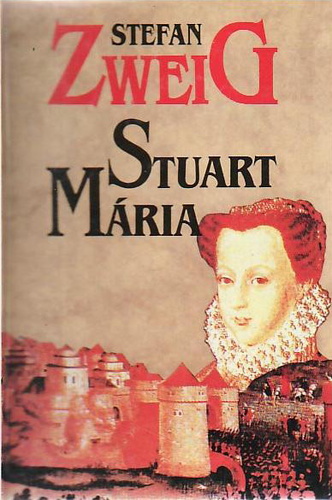
 Увеличить Увеличить |
6. Оживление на
политическом аукционе невест
(1563-1565)
Две
молодые женщины в ту пору — самые желанные невесты в мире: Елизавета Английская
и Мария Шотландская. Во всей Европе едва ли сыщется обладатель королевских
прав, еще не обладающий супругою, который не засылал бы к ним сватов — будь то
Габсбург или Бурбон, Филипп II Испанский или сын его дон Карлос, эрцгерцог
австрийский, короли Шведский и Датский, почтенные старцы и совсем еще мальчики,
юноши, и зрелые мужи; давно уже на политическом аукционе невест не было такого
оживления. Ведь женитьба на государыне — по-прежнему незаменимое средство для
расширения монаршей власти. Не войнами, а матримониальными союзами создавались
во времена абсолютизма обширные наследственные права; так возникла объединенная
Франция, Испанская мировая держава и могущество дома Габсбургов. А тут
неожиданно засверкали и последние драгоценности европейской короны. Елизавета
или Мария Стюарт, Англия или Шотландия — тот, кто женитьбой приберет к рукам ту
или другую страну, выиграет мировое первенство; но здесь идет не только
состязание наций, но и война духовная, война за человеческие души. Ибо, случись,
что британские острова вместе с одной из владычиц достались бы
соправителю-католику, это означало бы, что стрелка весов в борьбе католицизма и
протестантизма окончательно склонилась в сторону Рима и «ecclesia universalis»[66] вновь
восторжествовала в мире. А потому азартная погоня за невестами означает здесь
нечто большее, нежели простое семейное событие: в ней заключено решение мировой
важности.
Решение
мировой важности… Но для обеих женщин, для обеих королев здесь решается также и
спор всей их жизни. Нерасторжимо переплелись их судьбы. Если одна из соперниц
возвысится благодаря браку, то неудержимо зашатается престол другой; если одна
чаша весов поднимется, неминуемо упадет другая. Равновесие лжедружбы между
Елизаветой и Марией Стюарт может сохраниться, пока обе не замужем и одна — лишь
королева Английская, а другая — лишь королева Шотландская. Стоит одной чаше
перевесить, и кто-то из них станет сильнее — победит. Но неустрашимо противостоит
гордость гордости, ни одна не хочет уступить и не уступит. Только борьба не на
жизнь, а на смерть может разрешить этот безысходный спор.
Для
блистательно развивающегося зрелища этого поединка сестер история избрала двух
артисток величайшего масштаба. Обе, и Мария Стюарт и Елизавета, —
редкостные, несравненные дарования. Рядом с их колоритными фигурами остальные
монархи того времени — аскетически закостенелый Филипп II Испанский,
по-мальчишески вздорный Карл IX Французский, незначительный Фердинанд
Австрийский — кажутся актерами на вторые роли; ни один из них и отдаленно не
достигает того духовного уровня, на котором противостоят друг другу обе
женщины. Обе они умны, но при всем своем уме подвержены чисто женским страстям
и капризам. Обе бешено честолюбивы, обе с юного возраста тщательно готовились к
своей высокой роли. Обе держатся с подобающим их сану величием, обе блистают
утонченной культурой, делающей честь гуманистическому веку. Каждая наряду с
родным языком свободно изъясняется по-латыни, по-французски и итальянски —
Елизавета знает и по-гречески, а письма обеих образным и метким слогом выгодно
отличаются от бесцветных писаний их первых министров — письма Елизаветы
несравненно красочнее и живее докладных записок ее умного статс-секретаря
Сесила, а слог Марии Стюарт, отточенный и своеобразный, нисколько не похож на
бесцветные дипломатические послания Мэйтленда и Меррея. Незаурядный ум обеих
женщин, их понимание искусства, вся их царственная повадка способны
удовлетворить самых придирчивых судей, и если Елизавета внушает уважение
Шекспиру и Бену Джонсону[67],
то Марией Стюарт восхищаются Ронсар и Дю Белле. Но на утонченной личной
культуре сходство между обеими женщинами и кончается: тем ярче выступает их
внутренняя противоположность, которую писатели с давних времен воспринимали и
изображали как типично драматическую.
Противоположность
эта такая полная, что даже линии их жизни выражают ее с графической
наглядностью. Основное различие: Елизавета терпит трудности в начале пути,
Мария Стюарт — в конце. Счастье и могущество Марии Стюарт возносятся легко,
светло и мгновенно, как встает в небе утренняя звезда; рожденная королевой, она
еще ребенком принимает второе помазание. Но так же круто и внезапно свершается
ее падение. Ее судьба как бы сгустилась в три-четыре катастрофы и,
следовательно, сложилась как драма — недаром Марию Стюарт столь охотно избирали
героинею трагедии, — в то время как восхождение Елизаветы свершается
медленно, но верно (почему здесь уместно только плавное повествование). Ей
ничто не давалось даром и не падало в руки с неба. Объявленная в детстве
бастардом и заточенная родной сестрой в Тауэр в ожидании смертного приговора,
эта скороспелая дипломатка вынуждена поначалу хитростью отстаивать свое право
на самое существование, на жизнь из милости. У Марии Стюарт, прямой наследницы
королей, на роду написано величие; Елизавета добилась его своими силами, своим
горбом.
Две
столь различные линии жизни, естественно, стремятся разойтись в разные стороны.
Если порой они скрещиваются и пересекаются, то переплестись не могут. Глубоко,
в каждой извилине, в каждом оттенке характера неминуемо сказывается изначальное
различие, заключающееся в том, что одна родилась в короне, как иные дети
рождаются с густыми волосами, тогда как другая с трудом добилась, хитростью
достигла своего положения; одна с первой же минуты — законная королева, вторая
— королева под вопросом. У каждой из этих женщин в силу особенностей ее судьбы
развились свои, только ей присущие качества. У Марии Стюарт незаслуженная
легкость, с какою — увы, слишком рано! — ей все доставалось, порождает
необычайную беспечность, самоуверенность и, как высший дар, ту дерзновенную
отвагу, которая и возвеличила ее и погубила. Всякая власть от бога и лишь богу
ответ дает. Ее дело — повелевать, а других — повиноваться, и если бы даже весь
мир усомнился в ее царственном призвании, она чувствует его в себе, в жарком
кипении своей крови. Легко и не рассуждая одушевляется она; бездумно, сгоряча,
словно хватаясь за рукоять шпаги, принимает решения; отчаянная наездница, одним
рывком повода, с маху берущая любой барьер, любую изгородь, она и в политике
надеется единственно на крыльях мужества перемахнуть через любое препятствие,
любую преграду. Если для Елизаветы искусство правления — это партия в шахматы,
головоломная задача, то для Марии Стюарт это одна из самых острых услад,
повышенная радость бытия, рыцарское ристание. У нее, как однажды сказал папа,
«сердце мужа в теле женщины», и именно эта бездумная смелость, этот державный
эгоизм, которые так привлекают к ней стихотворцев, сочинителей баллад и
трагедий, послужили причиной ее безвременной гибели.
Ибо
Елизавета, натура насквозь реалистическая с близким к гениальности чувством
действительности, добивается победы исключительно тем, что использует промахи и
безумства своей по-рыцарски отважной противницы. Зоркими, проницательными,
птичьими глазами она — взгляните на ее портрет — недоверчиво взирает на мир,
опасности которого так рано узнала. Уже ребенком постигла она, как произвольно,
то взад, то вперед, катится шар Фортуны[68]:
всего лишь шаг отделяет престол от эшафота, и опять-таки только шаг отделяет
Тауэр, это преддверие смерти, от Вестминстера. Всегда поэтому будет она
воспринимать власть как нечто текучее, повсюду будет ей чудиться угроза;
осторожно и боязливо, словно они из стекла и ежеминутно могут выскользнуть из
рук, держит Елизавета корону и скипетр; вся ее жизнь, в сущности, сплошные
тревоги и колебания. Портреты убедительно дополняют известные нам описания ее
характера: ни на одном не глядит она ясно, независимо и гордо, истинной
повелительницей: на каждом в ее нервных чертах сквозит настороженность и
робость, словно она к чему-то прислушивается, словно ждет чего-то, и никогда
улыбка уверенности не оживляет ее губ. Бледная, она держится очень прямо,
неуверенно и вместе с тем тщеславно вознося голову над помпезной роскошью
осыпанной каменьями робы и словно коченея под ее грузным великолепием.
Чувствуется: стоит ей остаться одной, сбросить парадную одежду с костлявых
плеч, стереть румяна с узких щек — и все ее величие спадет, останется бедная,
растерянная, рано постаревшая женщина, одинокая душа, не способная справиться с
собственными трудностями — где уж ей править миром! Такая робость в королеве,
конечно, далека от героики, а ее вечная медлительность, неуверенность и
нерешительность не способствуют впечатлению королевского могущества; но величие
Елизаветы как правительницы лежит в иной, неромантической области. Не в смелых
планах и решениях проявлялась ее сила, а в упорной, неустанной заботе об
умножении и сохранении, о сбережении и стяжании, иначе говоря, в чисто
бюргерских, чисто хозяйственных добродетелях: как раз ее недостатки —
боязливость, осторожность — оказались особенно плодотворны на ниве государственной
деятельности. Если Мария Стюарт живет для себя, то Елизавета живет для своей
страны, реалистка с сильно развитым чувством ответственности, она видит во
власти призвание, тогда как Мария Стюарт воспринимает свой сан как ни к чему не
обязывающее звание. У каждой свои отличительные достоинства и свои недостатки.
И если безрассудно-геройская отвага Марии Стюарт становится ее роком, то
медлительность и неуверенность Елизаветы в конечном счете идут ей на пользу. В
политике неторопливое упорство всегда берет верх над неукротимой силой,
тщательно разработанный план торжествует над импульсивным порывом, реализм —
над романтикой.
Но в этом
споре различие сестер идет гораздо глубже. Не только как королевы, но и как женщины
Елизавета и Мария Стюарт — полярные противоположности, как будто природе
заблагорассудилось воплотить в двух великих образах всемирно-историческую
антитезу, проведя ее во всем с контрапунктической последовательностью.
Как
женщина Мария Стюарт — женщина до конца, женщина в полном смысле слова;
наиболее ответственные ее решения всегда диктовались импульсами, исходившими из
глубочайших родников ее женского естества. И не то чтобы она была ненасытно
страстной натурой, послушной велениям инстинкта, напротив, что особенно ее
характеризует, — это чрезвычайно затянувшаяся женская сдержанность.
Проходят годы, прежде чем ее чувства дают о себе знать. Долго видим мы в ней (и
такова она на портретах) милую, приветливую, кроткую, ко всему безучастную
женщину с чуть томным взглядом, с почти детской улыбкой на устах,
нерешительное, пассивное создание, женщину-ребенка. Как и всякая истинно
женственная натура, она легко возбудима и подвержена вспышкам волнения,
краснеет и бледнеет по любому поводу, глаза ее то и дело увлажняются. Но это
мгновенное, поверхностное волнение крови долгие годы не тревожит глубин ее
существа; и как раз потому, что она нормальная, настоящая, подлинная женщина.
Мария Стюарт находит себя как сильный характер именно в страстной любви —
единственной на всю жизнь. Только тогда чувствуется, как сильна в ней женщина,
как она подвластна инстинктам и страстям, как скована цепями пола. Ибо в
великий миг экстаза исчезает, словно сорванная налетевшей бурей, ее наружная
культурная оснастка; в этой до сих пор спокойной и сдержанной натуре рушатся
плотины воспитания, морали, достоинства, и, поставленная перед выбором между
честью и страстью, Мария Стюарт, как истинная женщина, избирает не королевское,
а женское свое призвание. Царственная мантия ниспадает к ее ногам. И в своей
наготе, пылая, она чувствует себя сестрой бесчисленных женщин, что томятся
желанием давать и брать любовь; и больше всего возвышает ее в наших глазах то,
что ради немногих сполна пережитых мгновений она с презрением отшвырнула от
себя власть, достоинство и сан.
Елизавета,
напротив, никогда не была способна так беззаветно отдаваться любви — и это по
особой, интимной причине. Как выражается Мария Стюарт в своем знаменитом
обличительном письме, она физически «не такая, как все женщины». Елизавете было
отказано не только в материнстве; очевидно, и тот естественный акт любви, в
котором женщина отдается на волю мужчины, был ей недоступен. Не так уж
добровольно, как ей хочется представить, осталась она вековечной virgin Queen,
королевой-девственницей, и хотя некоторые сообщения современников (вроде
приписываемого Бену Джонсону) относительно физического уродства Елизаветы и
вызывают сомнения, все же известно, что какое-то физиологическое или душевное
торможение нарушало ее интимную женскую жизнь. Подобная ненормальность должна
весьма серьезно сказаться на всем существе женщины; и в самом деле, в этой
тайне заключены, как в зерне, и другие тайны ее души. Все нервически неустойчивое,
переливчатое, изменчивое в ее натуре, эта мигающая истерическая светотень,
какая-то неуравновешенность и безотчетность в поступках, внезапное переключение
с холода на жар, с «да» на «нет», все комедиантское, утонченное,
затаенно-хитрое, а также в немалой степени свойственное ей кокетство, не раз
подводившее ее королевское достоинство, порождалось внутренней неуверенностью.
Просто и естественно чувствовать, мыслить и действовать было недоступно этой
женщине с глубокой трещиной в душе; никто не мог ни в чем на нее рассчитывать,
и меньше всего она сама. Но, будучи даже калекой в самой интимной области,
игрушкой собственных издерганных нервов, будучи опасной интриганкой, Елизавета
все же никогда не была жестокой, бесчеловечной, холодной и черствой. Ничто не
может быть лживее, поверхностнее и банальнее, чем получившее широкое хождение
понятие о ней (воспринятое Шиллером в его трагедии), будто бы коварная кошка
Елизавета играла кроткой, безоружной Марией Стюарт как беспомощной мышкой. Кто
глядит глубже, тот в этой одинокой женщине, зябнущей под броней своего
могущества и только изводящей себя своими псевдолюбовниками, ибо ни одному из
них она не способна отдаться, видит скрытую лукавую теплоту, а за ее капризными
и грубыми выходками — честное желание быть доброй и великодушной. Ее робкой
натуре претило насилие, и она предпочитала ему пряную дипломатическую игру «по
маленькой» и безответственность закулисных махинаций; каждое объявление войны
повергало ее в дрожь и трепет, каждый смертный приговор камнем ложился на
совесть, всеми силами старалась она сохранить в стране мир. Если она боролась с
Марией Стюарт, то лишь потому, что чувствовала (и не без основания) с ее
стороны угрозу, да и то она охотнее уклонилась бы от открытой борьбы, ибо была
по натуре игроком, шулером, но только не борцом. Обе они — Мария Стюарт по
своей беспечности и Елизавета по робости характера — предпочли бы жить в Мире,
пусть бы даже это был худой, ложный мир. Но конфигурация звезд на небе в тот
исторический момент не допускала половинчатости, неопределенности. Равнодушная
к заветным желаниям отдельной личности, сильнейшая воля истории часто
втравливает людей и стоящие за ними силы в свою смертоносную игру.
Ибо за
антагонистическими чертами исторических личностей повелительно, исполинскими тенями
встают великие противоречия эпохи. И не случайность, что Мария Стюарт была
поборницей старой, католической, а Елизавета — защитницей новой, реформатской
церкви; в том, что каждая из них берет сторону одной из борющихся партий, как
бы символически отражен тот факт, что обе королевы воплощают различные
мировоззрения: Мария Стюарт — умирающий мир рыцарского средневековья, Елизавета
— мир новый, нарождающийся. В их борьбе как бы изживает себя эпоха перелома.
Мария
Стюарт, как последний отважный паладин, борется и умирает за то, что кануло без
возврата, — за обреченное, гиблое дело, и это придает ее фигуре такое
романтическое очарование. Она лишь повинуется творящей воле истории, когда,
обращенная в прошлое, политически связывает свою судьбу с силами, уже
перешагнувшими через зенит, с Испанией и Ватиканом, — тогда как Елизавета
прозорливо шлет посольства в самые отдаленные страны, Россию и Персию, и с
безошибочным чутьем обращает энергию своего народа к океанам, как бы в
предвидении того, что столбы, поддерживающие будущую мировую империю, должны
быть воздвигнуты на новых континентах. Мария Стюарт косно привержена традиции,
она не возвышается над чисто династическим пониманием королевской власти. По ее
мнению, страна прилежит властителю, а не властитель стране; все эти годы Мария
Стюарт была лишь королевой Шотландской, и никогда не была она королевой шотландского
народа. Сотни написанных ею писем трактуют об утверждении, расширении ее личных
прав, и нет ни одного, где шла бы речь о народном благе, о развитии торговли,
мореплавания или военной мощи. Как языкам ее в поэтических опытах и
повседневном обиходе всегда оставался французский язык, так и в помыслах ее и
чувствах нет ничего национального, шотландского; не ради Шотландии жила она и
приняла смерть, а единственно, чтобы оставаться королевою Шотландской. В итоге
Мария Стюарт не дала своей стране ничего творчески вдохновляющего, кроме
легенды о еврей жизни.
Но,
поставив себя над всеми, Мария Стюарт обрекла себя на одиночество. Пусть
мужеством и решимостью она неизмеримо превосходила Елизавету, зато Елизавета не
в одиночестве боролась против нее. Чувство неуверенности рано заставило ее
укрепить свои позиции, и она сумела окружить себя помощниками — надежными
людьми с ясным, трезвым разумом; в этой войне она опиралась на целый
генеральный штаб, обучавший ее тактике и практике и в решительные минуты
защищавший ее от порывов и срывов ее нервического темперамента. Елизавета
умудрилась создать вокруг себя такую превосходную организацию, что и поныне,
спустя столетие, ее личные заслуги почти неотделимы от коллективных заслуг
елизаветинской эпохи в целом, так что озаряющая ее имя бессмертная слава
обнимает и достижения ее выдающихся советников. В то время как Мария Стюарт —
это Мария Стюарт и только, Елизавета — это всегда Елизавета плюс Сесил, плюс
Лестер, плюс Уолсингем, плюс энергия всего народа; не разберешь, кто же,
собственно, был гением того, шекспировского, века — Англия или Елизавета,
настолько они слились в некое, замечательное единство. Своим выдающимся положением
среди монархов своего времени Елизавета обязана как раз тому, что она не стремилась
быть госпожой Англии, а лишь исполнительницей воли англичан, свершительницей
национальной миссии. Она угадала веяние времени, от автократии устремленное к
конституционному строю. Добровольно признает она новые силы, возникающие из
преобразования сословий, из расширения мирового пространства благодаря
выдающимся открытиям века; она поощряет все новое — сословные гильдии,
купцов-толстосумов и даже пиратов, ибо Англии, ее Англии, они прокладывают путь
к преобладанию на море. Тысячи раз жертвует она (чего Мария Стюарт никогда не
делает) своими личными желаниями ради общенационального блага. Наилучший выход
из душевных затруднений — выход в деятельную жизнь; потерпев крах как женщина,
Елизавета ищет счастье в благоденствии своего народа. Весь свой эгоизм, всю
жажду власти эта бездетная, безмужняя женщина переключила на общенациональные
интересы: быть великой величием Англии в глазах потомства было самым
благородным из ее тщеславных помыслов, и жила она лишь во имя будущего величия
Англии. Никакая другая корона не могла бы ее прельстить (тогда как Мария Стюарт
с восторгом сменяла бы свою на любую лучшую), и в то время как та сгорела в
свой час, вспыхнув ослепительным метеором, скупая дальновидная Елизавета отдала
все силы будущему своей нации.
А потому
не случайность, что борьба между Марией Стюарт и Елизаветой решилась в пользу
той, что олицетворяла прогрессивное, жизнеспособное начало, а не той, что была
обращена назад, в рыцарское прошлое; с Елизаветой победила воля истории,
которая торопится вперед, отбрасывая отжившие формы, как пустую шелуху,
творчески испытывая себя на новых путях. В ее жизни воплощена энергия наций,
которая хочет завоевать свое место в мире, тогда как в смерти Марии Стюарт
героически и эффектно отмирает рыцарское прошлое. И все же каждая из них
выполняет в этой борьбе свое назначение: Елизавета, как трезвая реалистка,
побеждает в истории, романтическая Мария Стюарт — в поэзии и предании.
Блистательна
эта борьба, предстающая нам сквозь призму времени и пространства и в столь
эффектном исполнении; жаль только, что презренны и мелки те средства, какими
она ведется. Ибо, хоть фигуры и незаурядные, обе женщины остаются женщинами,
они бессильны превозмочь свойственную их полу слабость — враждовать не в
открытую, а изводя противника лукавыми происками, булавочными уколами. Будь на
месте Марии Стюарт и Елизаветы двое мужчин, двое королей, не миновать бы им
кровавого столкновения, войны. Тут притязание непримиримо встало бы против притязания,
мужество против мужества. Конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой лишен честной
мужской ясности; это драка двух кошек, которые, спрятав когти, бродят вокруг да
около и сторожат друг друга, — коварная и во всех отношениях нечестная
игра. В течение четверти века эти женщины только и делали, что лгали друг другу
(причем ни одна ни на секунду не дала себя обмануть). Ни разу не поглядят они в
глаза друг другу, ни разу их ненависть не выступит с поднятым забралом; льстиво
и лицемерно улыбаясь, приветствуют они, и поздравляют, и улещают, и одаривают
одна другую, и каждая держит за спиной отточенный кинжал. Нет, хроника войны
между Елизаветой и Марией Стюарт не знает ни битв, ни прославленных эпизодов в
духе «Илиады», это не героическая эпопея, а скорее глава из Макиавелли[69], пусть и
увлекательная для психолога, но отталкивающая для моралиста, ибо это всего лишь
затянувшаяся на двадцатилетие интрига, но только не открытый, бряцающий бой.
Бесчестная
игра начинается со сватовства Марии Стюарт и появления на сцене августейших
женихов. Мария Стюарт согласна на любого из них, женщина в ней еще дремлет и не
участвует в выборе. Она охотно пошла бы за пятнадцатилетнего дона Карлоса, хотя
молва рисует его злобным мальчишкой, страдающим припадками ярости, но так же
легко согласилась бы и на малолетнего Карла IX. Молод или стар, красив или
уродлив, — безразлично ее честолюбию, лишь бы этот союз возвысил ее над
ненавистной соперницей. Не проявляя большого интереса, она поручает все переговоры
своему сводному брату Меррею, и тот ведет их с корыстным рвением, ибо стоит его
сестре заполучить корону в Париже, Вене или Мадриде, как он избавится от нее и
снова станет некоронованным королем Шотландии. Елизавета мигом узнает — ведь ее
шпионы не дремлют — об этих чужеземных сватовствах и тотчас же накладывает на
них свое грозное вето. Без околичностей заявляет она шотландскому посланнику,
что, коль скоро Мария Стюарт примет королевское предложение из Австрии, Франции
или Испании, она, Елизавета, сочтет это враждебным актом, но это не мешает ей в
то же время обратиться к своей дорогой кузине с нежным увещанием, умоляя
довериться ей одной, «какие бы горы блаженства и земного великолепия ей ни
сулили другие». О, она нисколько не возражала бы против принца протестантской
веры, против короля Датского или герцога Феррары — понимай: против недостойных,
безопасных претендентов, — но больше всего желала бы, чтобы Мария Стюарт
нашла себе супруга «дома» — какого-нибудь шотландского или английского
дворянина. В этом случае ей навеки обеспечена ее сестринская любовь и помощь.
Позиция
Елизаветы — это, конечно, беззастенчивая foul play[70], и ее скрытое намерение
очевидно: королева-девственница поневоле, она старается лишить соперницу ее
крупного шанса. Столь же искусным приемом отбивает Мария Стюарт брошенный ей
мяч. Она, разумеется, ни минуты не думает о том, чтобы признать за Елизаветой
overlordship — право решающего голоса в ее матримониальных прожектах. Но
великая сделка повисла в воздухе, главный кандидат, дон Карлос, все еще медлит
с решением. И Мария Стюарт лицемерно благодарит Елизавету за материнскую
заботу. «For all uncles of the world»[71]
не стала бы она рисковать драгоценной дружбой английской королевы, оскорбив ее
самовольным решением, — о нет, боже сохрани! — она готова следовать
любому ее совету, пусть только Елизавета вразумит ее, которые женихи дозволены
(«allowed»), а которые нет. Поистине трогательная покорность, но словно между
строк вставляет Мария Стюарт невинный вопрос: каким образом намерена Елизавета
вознаградить ее покорность? Она как бы говорит: «Изволь, я исполню твое желание
и не выйду за человека, знатностью и могуществом превосходящего тебя, о
возлюбленная сестра. Но и ты соблаговоли дать мне гарантию и не откажи
разъяснить: как обстоит дело с моими правами преемства?»
Тем
самым конфликт по-прежнему благополучно застрял на мертвой точке. Как только
Елизавете надо сказать что-то членораздельное на тему о преемстве, она прячется
в свою скорлупу, и клещами не вырвешь у нее ясного слова. Кружа и петляя,
лепечет она что-то сугубо косноязычное: «она-де сердечно предана интересам
своей сестрицы» и намерена позаботиться о ней, как о родной дочери; потоком
сладчайших слов исписываются целые страницы, но нет среди них искомого, решительного,
обязывающего слова: точно два левантинских купца[72], хотят они сварганить
дельце, так сказать, из рук в руки — ни одна не рискует разжать горсть первой.
Избери того, кого я тебе прикажу, говорит Елизавета, и я объявлю тебя своей
преемницей. Назови меня своей преемницей, и я изберу, кого ты мне велишь,
отвечает ей Мария Стюарт. И ни одна не верит другой, потому что каждая намерена
обмануть соперницу.
Целых
два года тянутся переговоры о замужестве, женихах и преемстве. Но, как ни
странно, оба шулера, сами того не желая, подыгрывают друг другу. Елизавете
только и нужно, что водить Марию Стюарт за нос, а Марии Стюарт, к ее несчастью,
приходится иметь дело с самым медлительным из монархов, Филиппом II. И лишь
когда переговоры с Испанией окончательно заходят в тупик и надо уже думать о
других предложениях, Мария Стюарт решает покончить с намеками и экивоками и
безоговорочно приставляет своей милой сестрице к груди пистолет. Она
приказывает ясно и недвусмысленно спросить, кого же предлагает Елизавета как
достойного претендента.
Елизавете
очень уж неповадно отвечать на вопросы, заданные в столь категорической форме,
а тем более на этот вопрос. Ибо давно уже обиняками дала она понять, кого имеет
в виду для Марии Стюарт. В одном из писем она многозначительно промямлила:
она-де «намерена предложить ей такого жениха, что никто и не подумал бы, что
она может на это решиться». Однако шотландский двор делает вид, будто не
понимает намеков, и требует позитивного предложения — назовите имя! Припертая к
стене, Елизавета уже не может ограничиться намеками. С усилием выдавливает она
из себя имя избранника: Роберт Дадлей.
И тут
дипломатическая комедия рискует на минуту превратиться в фарс. Предложение Елизаветы
можно понять либо как чудовищное надругательство, либо как чудовищный блеф. Уже
одно предположение, что королева Шотландская, вдовствующая королева
Французская, может удостоить своей руки какого-то ничтожного подданного,
subject своей сестры-королевы, захудалого дворянчика без единой капли
королевской крови, по понятиям того времени, близко к оскорблению. Однако
наглость предложения усугубляется особым обстоятельством: всей Европе известно,
что Роберт Дадлей уже многие годы состоит у Елизаветы в потешных любовниках, в
партнерах ее эротических игр, и, стало быть, королева Английская, словно свой
обносок, дарит королеве Шотландской как раз того человека, с которым сама она
погнушалась вступить в брак. Впрочем, всего лишь несколько лет назад
тяжелодумная Елизавета играла этой мыслью (именно играла: для нее это всегда
игра). И только когда Эйми Робсарт, жена Дадлея, была найдена убитой при
загадочных обстоятельствах, она поспешила отказаться от этого плана, дабы не
навлечь на себя подозрения в соучастии. Сватать дважды скомпрометированного
человека — во-первых, той темной историей, а также некими интимными отношениями
с ней, Елизаветой, — предложить его в мужья Марии Стюарт было из многих
грубых и бестактных выходок, ознаменовавших ее правление, пожалуй, наиболее
бестактной.
Чего
Елизавета, собственно, добивалась этим непонятным сватовством — вряд ли
когда-либо станет ясно. Кто возьмется перевести на язык логики взбалмошную
прихоть истерической натуры? Мечтала ли она как преданная любовница наградить
любовника, которого не осмеливалась взять в мужья, отписав ему по духовной,
вместе с правами преемства, самое ценное, чем она располагала, — свое
королевство? Хотела ли просто избавиться от прискучившего ей cicisbeo?[73] Надеялась ли
через преданного человека вернее держать соперницу в узде? А может быть, она
лишь испытывала любовь Дадлея? Мечтала ли она о partie à trois[74] — объединенном любовном
хозяйстве? Или же это просто фортель, рассчитанный на то, что Мария Стюарт
своим отказом проявит себя неблагодарной? Каждое из этих предположений законно,
но скорее всего причудница и сама не знала, чего она, собственно, хочет: по-видимому,
то была опять лишь игра воображения, ведь ей так свойственно играть решениями и
людьми. Трудно себе представить, что произошло бы, отнесись Мария Стюарт
серьезно к предложению выйти замуж за отставного любовника английской королевы.
Быть может, Елизавета, внезапно одумавшись, запретила бы Дадлею этот брак и,
унизив соперницу оскорбительным сватовством, осрамила бы ее вдобавок позорным
отказом.
Для
Марии Стюарт предложение выйти замуж за претендента некоролевской крови — это нечто
вроде дерзостного богохульства. Неужто его госпожа серьезно думает, что она,
помазанница божия, позарится на какого-то «лорда Роберта», спрашивает она
посланца под впечатлением свежей обиды. Но она сдерживает недовольство и мило
улыбается: такую опасную противницу, как Елизавета, не стоит преждевременно
гневить столь резким отказом. Надо сперва выйти за испанского или французского
престолонаследника, а там она сполна рассчитается за оскорбление. В этом
поединке сестер один нечестный поступок неизменно вызывает ответный — на
коварное предложение Елизаветы следует лживое заверение Марии Стюарт в дружбе и
признательности. Итак, Дадлея не отвергают в Эдинбурге, как претендента, боже
сохрани, королева делает вид, будто клюнула на эту удочку, что позволяет ей
разыграть презабавный второй акт. Сэр Джеймс Мелвил откомандировывается с
официальным поручением в Лондон, якобы для того, чтобы начать переговоры о
кандидатуре Дадлея, а на самом деле — чтобы еще больше запутать этот клубок лжи
и притворства.
Мелвил,
самый преданный из дворян Марии Стюарт — искусный дипломат, но еще более искусное
перо: он умеет не просто писать, но и живописать, за что мы ему особенно
благодарны. Его поездка к английскому двору подарила миру самое живое и яркое
изображение Елизаветы в приватной обстановке, а также одну из самых блестящих
исторических комедий. Елизавете хорошо известно, что этот светский человек
провел долгие годы при французском и германском дворах, и она пускается во все
тяжкие, чтобы блеснуть перед ним именно своими женскими достоинствами, не
подозревая, что его беспощадная память удержит и увековечит для истории все ее
кокетливые благоглупости и ужимки. Женское тщеславие частенько подводит
Елизавету; так и сейчас неисправимая кокетка, вместо того чтобы убеждать посла
шотландской королевы доводами политической мудрости, старается прежде всего
очаровать мужчину своими личными совершенствами. Она показывается ему во всем
блеске. В необъятном своем гардеробе — три тысячи платьев насчитали после ее
смерти — она выбирает самые дорогие туалеты и появляется одетая то по
английской, то по французской, то по итальянской моде, в щедром декольте,
открывающем обширные перспективы, щеголяет своей латынью, своим французским и
итальянским и с ненасытной жадностью вбирает в себя безграничное, по-видимому,
восхищение посла. А все же его комплименты, хоть и выраженные в превосходной
степени, — она-де чудо как хороша, и умна, и образованна — ее не
удовлетворяют, ей непременно хочется — «Скажи, зеркальце на стене, кто красивее
во всей стране» — именно от посла шотландской королевы услышать, что он
восхищен ею как женщиной больше, чем своей госпожой. Пусть скажет, что она либо
красивее, либо умнее, либо образованнее, нежели Мария Стюарт. И она распускает
перед ним свои необычайно густые волнистые волосы, рыжие с красноватым отливом,
и спрашивает, лучше ли волосы у Марии Стюарт, — каверзный вопрос для
посланца королевы! Мелвил с честью выходит из затруднения, ответствуя с
соломоновой мудростью, что в Англии ни одна женщина не сравнится с Елизаветой,
а в Шотландии ни одна не превосходит красотой Марию Стюарт. Но такое «и нашим и
вашим» не удовлетворяет тщеславную кокетку: снова и снова расточает она перед
ним свои чары — садится за клавесин и даже поет под лютню. Волей-неволей
Мелвил, памятуя поручение обвести Елизавету вокруг пальца, снисходит до
признания, что лицо у нее белее, что она искуснее играет на клавесине и в
танцах держится лучше, чем Мария Стюарт. Увлеченная самовосхвалением, Елизавета
забывает о настоящей цели их свидания, когда же Мелвил сворачивает на эту
щекотливую тему, Елизавета уже опять играет роль: прежде всего она достает из
ящика миниатюру Марии Стюарт и нежно ее целует. Со слезой в голосе принимается
она рассказывать, как мечтает лично встретиться с Марией Стюарт, своей
возлюбленной сестрицей (на самом деле она всю свою жизнь не жалела усилий,
чтобы так или иначе расстроить все предстоящие им свидания); если верить словам
этой отпетой актрисы, то дороже всего для нее знать, что ее соседка королева
счастлива. Но у Мелвила трезвая голова и ясный взгляд. Разученной декламацией
его не обманешь; подытоживая все виденное и слышанное, он сообщит в Эдинбург,
что Елизавета всеми своими речами и поступками лишь увиливала от правды,
проявляя великое притворство, смятение и страх. Когда же Елизавета отважилась
на вопрос, что думает Мария Стюарт о браке с Дадлеем, опытный дипломат
воздержался как от решительного «нет», так и от ясного «да». Уклончиво заявляет
он, что Мария Стюарт еще недостаточно обдумала это предложение. Но чем больше
он уклоняется, тем резче настаивает Елизавета. «Лорд Роберт, — говорит
она, — мой лучший друг. Я люблю его как брата и никогда бы не искала себе
другого мужа, если бы решилась выйти замуж. Но так как я не чувствую к сему
склонности и бессильна себя побороть, то я желала бы, чтобы, по крайней мере,
сестра моя избрала его, ибо я не знаю никого более достойного делить с ней мое
наследие. А для того, чтобы моя сестра не ценила его слишком низко, я
намереваюсь через несколько дней возвести его в сан графа Лестерского и барона
Денбийского».
И
действительно, по прошествии нескольких дней — третий акт комедии — совершается
со всей пышностью и блеском означенная церемония. Лорд Роберт Дадлей преклоняет
колена перед своей, государыней и возлюбленной, чтобы встать с колен уже графом
Лестером. Но даже в эту патетическую минуту женщина в Елизавете сыграла с
королевою недобрую шутку. Возлагая на верного слугу графскую корону, любовница
не может удержаться, чтобы не потрепать по головке милого дружка; так
торжественная церемония оборачивается фарсом, и Мелвил лукаво усмехается в
бороду: он уже предвидит, какой забавный доклад пошлет своей госпоже в
Эдинбург.
Но
Мелвил прибыл в Лондон не только для того, чтобы как летописец наслаждаться
комедией, разыгрываемой коронованной особою: у него тоже своя роль в этом qui
pro quo[75].
В его дипломатическом портфеле имеются потайные карманы, которых он ни за что
не откроет Елизавете; льстивая болтовня о графе Лестере — лишь дымовая завеса,
скрывающая поручение, с которым он, собственно, и приехал в Лондон. Прежде
всего ему надлежит энергично постучаться к испанскому послу и выяснить, каковы,
наконец, намерения Дона Карлоса, — Мария Стюарт не согласна больше ждать.
Кроме того, ему поручено со всей осторожностью позондировать почву насчет
возможных переговоров с еще одним второсортным кандидатом — Генри Дарнлеем.
Означенный
Генри Дарнлей пока еще стоит на запасном пути. Мария Стюарт придерживает его в
резерве на тот случай, если провалятся все ее многообещающие планы. Ибо Генри
Дарнлей никакой не король и даже не князь; отец его, граф Ленокс, как исконный
враг Стюартов, был изгнан из Шотландии и лишен всех поместий. Зато с
материнской стороны в жилах восемнадцатилетнего юноши течет истинно королевская
кровь Тюдоров; правнук Генриха VII, он первый prince of blood[76] при английском
королевском дворе и потому вполне приемлемая партия для любой государыни; кроме
того, у него еще то преимущество, что он католик. В качестве третьего,
четвертого или пятого претендента Дарнлей вполне возможен, и Мелвил ведет
туманные, ни к чему не обязывающие разговоры с Маргаритой Ленокс, честолюбивой
матушкой этого кандидата на всякий случай.
Но
таково условие любой удачной комедии: хотя все ее персонажи обманывают друг
друга, а все же кое-кому случается и запустить глаза в карты соседа. Елизавета
не так уж наивна, чтобы думать, что Мелвил лишь с тем приехал в Лондон, чтобы
отпускать ей комплименты насчет ее волос и искусной игры на клавесине. Она
знает, что предложение сдать с рук на руки Марии Стюарт ее, Елизаветы,
отставленного дружка не слишком восхищает шотландскую королеву; ей также хорошо
известны честолюбие и практическая сноровка леди Ленокс. Кое-что, надо думать,
пронюхали и ее шпионы. И как-то, во время обряда посвящения в рыцари, когда
Генри Дарнлей в качестве первого принца двора несет перед ней королевский меч,
Елизавета в приливе искренности обращается к Мелвилу и говорит ему, не
сморгнув: «Мне очень хорошо известно, что вам больше приглянулся сей молодой
повеса». Однако Мелвил при такой попытке бесцеремонно залезать к нему в потайной
карман не теряет обычного хладнокровия. Плох тот дипломат, который не способен
в трудную минуту соврать, не краснея. Сморщив умное лицо в презрительную
гримасу и с пренебрежением глядя на того самого Дарнлея, ради которого он еще
только вчера хлопотал, Мелвил замечает спокойно: «Ни одна умная женщина не
изберет в мужья повесу с такой стройной талией и таким пригожим безбородым
лицом, более подобающим женщине, чем зрелому мужу».
Сдалась
ли Елизавета на искусный маневр опытного дипломата? Поверила ли его притворному
пренебрежению? Или же она ведет в этой комедии еще более непроницаемую двойную
игру? Но только вот что удивительно: сначала лорду Леноксу, отцу Дарнлея,
дозволено вернуться в Шотландию, а в январе 1565 года разрешение получает и сам
Дарнлей. Елизавета не то из каприза, не то из коварства посылает ко двору
противницы как раз самого опасного кандидата. Забавно, что ходатаем по этому
делу выступает не кто иной, как граф Лестер — он тоже ведет двойную игру, чтобы
незаметно выскользнуть из брачных силков, расставленных его госпожой. Четвертый
акт этого фарса тем самым переносится в Шотландию, но тут искусно нарастающая
путаница обрывается, и комедия сватовства приходит к внезапному концу,
неожиданному для всех участников.
Ибо
политика, эта земная, искусственная сила, сталкивается в тот зимний день с
некоей извечной, изначальной силой: жених, явившийся к Марии Стюарт с визитом,
неожиданно находит в королеве женщину. После долгих лет терпеливого,
безучастного ожидания она наконец пробудилась к жизни. До сей поры она была
лишь королевской дочерью, королевской невестой, просто королевой и вдовствующей
королевой — игрушка чужой воли, послушный объект дипломатических торгов.
Впервые в ней просыпается чувство, одним рывком сбрасывает она с себя коросту
честолюбия, словно тяготящее ее платье, чтобы свободно распорядиться своим юным
телом, своей жизнью. Впервые слушается она не чужих советов, а лишь голоса
крови — требований и подсказки своих чувств. Так начинается история ее
внутренней жизни.
|


