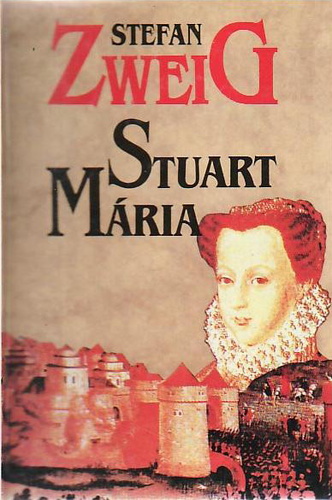
 Увеличить Увеличить |
15. Низложение
(лето 1567 года)
С этого
дня, с поворотного в ее судьбе семнадцатого июня, когда лорды засадили свою
королеву в замок Лохливен за крепкие засовы и затворы, Мария Стюарт становится
причиной непрекращающейся смуты и смятения в Европе. Ведь в ее лице встал перед
веком новый, можно сказать, революционный вопрос неоглядного значения — о том,
какие меры следует принять в отношении монарха, впавшего в непримиримый
конфликт со своим народом и оказавшегося недостойным королевского венца. Вина
здесь неоспоримо лежит на повелительнице: отдавшись на произвол легкомысленной
страсти, Мария Стюарт создала невозможное, нетерпимое положение. Вопреки воле
своего дворянства, народа и духовенства она избрала супругом человека, который
не только был связан брачными узами, но и единодушно заклеймен общественным
мнением как убийца шотландского короля. Презрев закон и добрые нравы, она и
теперь отказывается признать этот безрассудный союз недействительным. Даже
самые преданные ее друзья согласны между собой в том, что рядом с этим убийцей
она не может дольше править Шотландией.
Но какие
существуют средства принудить королеву либо расстаться с Босуэлом, либо
отречься от престола в пользу сына? Ответ звучит ошеломляюще: да никаких.
Государственные правомочия по отношению к монарху в то время равны нулю; народу
еще не дозволено подвергать сомнению или порицанию действия своего властителя,
всякая юрисдикция кончается у ступеней трона. Гражданское право не простирается
на особу короля, он за пределами и выше этого права. Как и священник, он
рукоположен самим Господом Богом и ни передать, ни подарить свой сан никому не
властен. Никто не вправе лишить помазанника божия его высокого достоинства. С
точки зрения абсолютизма позволительнее отнять у монарха жизнь, нежели корону.
Можно умертвить венценосца, но не свести его с престола, ибо применить к нему
какие-то меры принуждения значило бы посягнуть на иерархический строй
мироздания в целом. Мария Стюарт своим преступным браком поставила мир перед
совершенно новой задачей. От того, как решится ее судьба, зависел не только
единичный конфликт, но и умозрительный принцип, основа целого мировоззрения.
Потому-то
так судорожно ищут лорды — в меру доступной им учтивости, конечно, — ищут
путей уладить дело полюбовно. Даже сейчас, из далей столетий, ясно чувствуется
трепет, какой внушало им собственное деяние, — шутка ли, посадить свою
повелительницу под замок! — и на первых порах для Марии Стюарт не отрезана
возможность возвращения, стоит ей лишь объявить свой брак с Босуэлом незаконным
и тем признать свою ошибку. Правда, ее популярность и авторитет изрядно
пошатнулись, а все же она могла бы на более или менее почетных условиях
вернуться в Холируд и со временем избрать себе достойного супруга. Но у Марии
Стюарт еще не открылись глаза. По-прежнему слепо веря в свою непогрешимость,
она не хочет понять, что все эти непрерывные скандалы — Шателяр, Риччо,
Дарнлей, Босуэл — навлекли на нее обвинение в пагубном легкомыслии. Даже самую
ничтожную уступку отвергает она, как недостойную. Против всей страны, против
всего света защищает она Босуэла, заявляя, что не может от него отказаться, так
как иначе дитя, которое она носит, родится бастардом. Она все еще парит в
облаках — неисправимый романтик, она не хочет считаться с действительностью. Но
это своеволие, которое можно при желании назвать и нелепым и великолепным, с
необходимостью вызывает к жизни насильственные меры, какие и были к ней применены,
вплоть до той, значение которой еще скажется в веках: ибо не только она, а и
кровный ее внук Карл I головой заплатит за свое притязание на неограниченный
княжеский произвол.
Но на
первых порах, во всяком случае, она еще может рассчитывать на некоторую помощь.
Ведь такой конфликт между государыней и народом виден издалека, и ее собратьям
и единомышленникам, европейским монархам, он не безразличен; особенно
решительно на сторону своей давней противницы становится Елизавета. Многие
усматривают непоследовательность и недобросовестность в том, что Елизавета
вдруг так энергично вступается за соперницу. А между тем поведение Елизаветы и
последовательно, и логично, и ясно. Став на сторону Марии Стюарт, она отнюдь не
хочет выгородить — и эту разницу нужно всячески подчеркнуть — ни лично Марию
Стюарт, ни женщину, ни все ее неблаговидное и более чем сомнительное поведение.
Лишь за королеву вступается она как королева, за чисто умозрительную идею
неприкосновенности царственных прав, тем самым отстаивая и собственное дело.
Елизавета далеко не уверена в лояльности своего дворянства и потому не может
потерпеть, чтобы в соседней стране был безнаказанно подан пример крамолы, когда
мятежные подданные поднимают оружие против законной государыни, хватают ее и
сажают под замок. В противоположность Сесилу, который охотно выручил бы протестантских
лордов, она полна решимости вновь привести к послушанию этих мятежников,
посягнувших на королевский суверенитет, — в лице Марии Стюарт она защищает
собственные позиции. И мы, в порядке исключения, склонны ей верить, когда она
заявляет, что преисполнена глубокого участия к узнице. Нимало не медля, обещает
она свергнутой королеве поддержать ее по-родственному, хоть и не отказывает
себе в удовольствии язвительно поставить на вид оступившейся женщине ее вину. С
нарочитой ясностью отделяет она свою личную точку зрения от государственной.
«Madame, — пишет она, — относительно дружбы всегда существовало
мнение, что счастье приносит друзей, а несчастье их проверяет; и так как приспело
время на деле доказать нашу дружбу, мы, исходя из наших собственных интересов,
а также из участия к Вам, сочли за должное засвидетельствовать в этих кратких
словах нашу дружбу… Madame, скажу, не обинуясь, Вы немало огорчили нас, выказав
Вашим замужеством столь прискорбный недостаток сдержанности, и нам пришлось
убедиться, что никто из Ваших друзей в мире не одобряет Ваших поступков; утаить
это значило бы просто солгать Вам. Вы не могли бы ужаснее замарать свою честь,
чем выйдя с такой поспешностью за человека, не только известного всем с самой
худшей стороны, но к тому же обвиняемого молвой в убийстве Вашего супруга; не
мудрено, что Вы навлекли на себя обвинение в соучастии, хотя мы всемерно
уповаем, что оно не соответствует истине. И каким же опасностям Вы подвергли
себя, сочетавшись с ним при живой жене, — ведь ни по божеским, ни по
человеческим законам Вы не можете почитаться его законной женой, и дети Ваши не
будут почитаться рожденными в законе! Таким образом, Вы ясно видите, как мы
мыслим о Вашем браке и, к великому сожалению, иначе мыслить не можем, какие бы
убедительные доводы ни приводил Ваш посланец, склоняя нас на Вашу сторону. Мы
предпочли бы, чтобы после смерти мужа первой Вашей заботой было схватить и
казнить убийц. Если б это было сделано — что в случае столь ясном не
представляло никакой трудности, — мы на многие стороны Вашего брака
закрыли бы глаза. Но поскольку этого не произошло, мы можем лишь, во имя дружбы
к Вам и уз крови, связывающих нас как с Вами, так и с Вашим почившим супругом,
заверить, что мы готовы приложить все наши силы и старания, чтобы достойно воздать
за убийство, кто бы из Ваших подданных ни совершил его и сколь бы он ни был Вам
близок».
Это
ясные слова, острые и отточенные, как бритва, тут не приходится ни мудрить, ни
гадать. Слова эти показывают, что Елизавета, через своих соглядатаев, а также по
устным донесениям Меррея лучше осведомленная о происшествии в Керк о’Филде,
нежели пламенные апологеты Марии Стюарт много веков спустя, не питает никаких
иллюзий насчет соучастия Марии Стюарт. Обвиняющим перстом указует она на
Босуэла как на убийцу. Характерно, что в своем дипломатическом послании она
пользуется намеренно церемонным оборотом: она-де «всемерно уповает», а не
глубоко убеждена, что Мария Стюарт не замешана в убийстве. «Всемерно уповаю» —
чересчур осторожное выражение, когда речь идет о столь страшном злодеянии, и
при достаточно изощренном слухе вы улавливаете, что Елизавета ни в коем случае
не поручилась бы за то, что Мария Стюарт невиновна, и только из солидарности
хочет она как можно скорее потушить скандал. Однако чем сильнее порицает Елизавета
поведение Марии Стюарт, тем упрямее отстаивает она — sua res agitur[137] — ее
достоинство властительницы. «Но чтобы утешить Вас в Вашем несчастье, о котором
мы наслышаны, — продолжает она в том же многозначительном письме, —
мы спешим заверить Вас, что сделаем все, что в наших силах и что почтем нужным,
чтобы защитить Вашу честь и безопасность».
И
Елизавета сдержала обещание. Она поручает своему посланнику самым энергичным
образом опротестовать все меры, предпринятые бунтовщиками против Марии Стюарт;
ясно дает она понять лордам, что, если они прибегнут к насилию, она не
остановится и перед объявлением войны. В чрезвычайно резком по тону письме она
предупреждает, чтобы они не осмелились предать суду помазанницу божию. «Найдите
мне в Священном писании, — пишет она, — место, позволяющее подданным
свести с престола своего государя. Где, в какой христианской монархии сыщется
писаный закон, разрешающий подданным прикасаться к особе своего государя,
лишать его свободы или вершить над ним суд?.. Мы не меньше лордов осуждаем
убийство нашего августейшего кузена, а брак нашей сестры с Босуэлом несравненно
больше огорчил нас, нежели любого из вас. Но вашего последующего обращения с
королевой Шотландской мы не можем ни одобрить, ни стерпеть. Велением божиим вы
— подданные, а она — ваша госпожа, и вы не вправе приневоливать ее к ответу на
ваши обвинения, ибо противно законам естества, чтобы ноги начальствовали над
головой».
Однако
Елизавета впервые наталкивается на открытое сопротивление лордов, как ни трудно
было его ждать от тех, кто в большинстве своем уже годами тайно состоит у нее
на жаловании. Убийство Риччо научило их, чего им ждать, если Мария Стюарт снова
вернется к власти: никакие угрозы, никакие посулы не побудили ее до сих пор
отказаться от Босуэла, а ее истошные проклятья во время обратной скачки в
Эдинбург, когда в своем унижении она грозила им великими опалами, все еще
зловеще звенят у них в ушах. Не для того убрали они с дороги сначала Риччо,
потом Дарнлея, потом Босуэла, чтобы снова отдаться на милость безрассудной
женщины; для них было бы куда удобнее возвести на престол ее сына — годовалое
дитя: ребенок не станет ими помыкать, и на два десятилетия, пока
несовершеннолетний король не войдет в возраст, они были бы неоспоримыми господами
страны.
И все же
лорды вряд ли нашли бы в себе мужество открыто восстать против своего денежного
мешка — Елизаветы, если бы случай не дал им в руки поистине страшное,
смертоносное оружие против Марии Стюарт. Спустя шесть дней после битвы при
Карберри-хилле низкое предательство спешит преподнести им чрезвычайно радостную
для них весть. Джеймс Балфур, правая рука Босуэла в убийстве Дарнлея, чувствует
себя не по себе с тех пор, как задул противный ветер, и он видит одну лишь
возможность спасти свою шкуру — совершить новую подлость. Стремясь заручиться
дружбой всесильных лордов, он предает опального друга. Тайно приносит он лордам
радостную весть, что бежавший Босуэл тайно прислал в Эдинбург слугу с
поручением незаметно выкрасть из замка оставленный им ларец с важными бумагами.
Слугу, по имени Далглиш, тут же хватают, и на дыбе, под страшными пытками,
несчастный в смертном страхе выдает, где тайник. По его указаниям в замке, под
одной из кроватей, находят драгоценный серебряный ларец — Франциск II во время
оно подарил его своей супруге Марии Стюарт, а она, ничего не жалевшая для
своего возлюбленного Босуэла, отдала ему вместе со всем остальным и заветный
ларец. В этом накрепко запирающемся хитроумными замками сундучке временщик
хранил свои личные бумаги, в том числе, очевидно, и обещание королевы выйти за
него замуж, а также ее письма, наряду с другими документами, в частности и
теми, что компрометировали лордов. Очевидно — ничего не может быть
естественнее, — Босуэл побоялся захватить с собой столь важные бумаги,
отправляясь в Бортуик, на бой с лордами. Он предпочел спрятать их в надежном
месте, рассчитывая при удобном случае послать за ними верного слугу. Ведь и
«бонд», которым он обменялся с лордами, и обещание Марии Стюарт стать его
женой, и ее конфиденциальные письма могли в трудную минуту очень и очень ему
пригодиться как для шантажа, так и для самозащиты: заручившись письменными
уликами, он мог крепко держать в руках королеву, если бы эта ветреница пожелала
от него отпасть, а также и лордов, вздумай они обвинить его в убийстве. Едва
почувствовав себя в безопасности, изгнанник должен был прежде всего подумать о
том, как бы снова завладеть драгоценными уликами. Лордам, таким образом,
вдвойне повезло с их счастливой находкой: теперь они могли втихомолку
уничтожить все письменные доказательства собственной виновности и в то же время
без всякого снисхождения использовать документы, свидетельствующие против
королевы.
Одну
лишь ночь главарь шайки граф Мортон хранил запретный ларец у себя, а уж на
следующий день он сзывает остальных лордов, среди них — факт, заслуживающий
особого упоминания, — также и католиков и друзей Марии Стюарт, и в их
присутствии шкатулка вскрывается. Тут-то и обнаруживают знаменитые письма и
сонеты, писанные ее рукой. Оставив даже в стороне вопрос о том, намного ли отличались
найденные оригиналы от напечатанных впоследствии текстов, мы можем утверждать с
уверенностью, что содержание писем оказалось крайне неблагоприятным для Марии
Стюарт; с этого часа поведение лордов меняется, они становятся увереннее,
смелее, настойчивее. В минуту первого ликования, даже не дав себе времени снять
копии с писем, не говоря уже о том, чтобы их подделать, они спешат раструбить
радостную весть — шлют гонца к Меррею во Францию сообщить ему хотя бы общее
содержание наиболее компрометирующего королеву письма. Они сносятся с
французским послом, допрашивают с пристрастием слуг Босуэла, попавших к ним в
руки, и записывают их показания; такое напористое, целеустремленное поведение
было бы невозможным, если бы найденные бумаги не содержали достаточно
убедительных улик преступного соучастия Марии Стюарт в убийстве. Положение
королевы сразу же резко ухудшается.
Ибо
найденные в столь критическую минуту письма неимоверно укрепили позиции мятежников.
Наконец-то они обрели для своего ослушания моральное оправдание, которого им
так недоставало, До сих пор они цареубийство валили на одного Босуэла, в то же
время остерегаясь слишком допекать беглеца из опасения, как бы он в ответ не
разоблачил их как соучастников. Марии Стюарт вменялось в вину лишь то, что она
вышла замуж за убийцу. Теперь же благодаря найденным письмам невинные агнцы
внезапно «открывают», что королева и сама замешана в убийстве: ее неосторожные
письменные признания дают этим завзятым циничным вымогателям верное средство
привести ее к повиновению. Наконец-то в руках у них орудие, с помощью которого
они вынудят ее «добровольно» отречься от престола в пользу сына, а станет
отпираться — что ж, можно будет выдвинуть против нее гласное обвинение в
прелюбодеянии и соучастии в убийстве.
Именно
выдвинуть из-за чужого плеча, а не открыто с ним выступить. Ибо лорды прекрасно
знают, что Елизавета не позволит им судить свою королеву. А потому они
благоразумно ретируются на задний план и требовать открытого процесса
предоставляют третьим лицам. Эту миссию — натравить против Марии Стюарт
общественное мнение — с великой охотой берет на себя обуянный жестоким
злорадством Джон Нокс. После убийства Риччо фанатический проповедник из
осторожности покинул страну. Теперь же, когда его мрачные пророчества насчет
«кровавой Иезавели» и того, каких бед она натворит своим легкомыслием, не
только сбылись, но даже превзошли все ожидания, он, облаченный в ризы пророка,
возвращается в Эдинбург. И вот с амвона громогласно и отчетливо зазвучали
призывы возбудить дело против грешной папистки; библический проповедник требует
суда над королевой-прелюбодейкой. От воскресенья к воскресенью тон реформатских
проповедников становится все наглее. Королеве так же мало простительно
нарушение супружеской верности и убийство, кричат они ликующим толпам, как и
последней простолюдинке; Ясно и недвусмысленно добиваются они казни Марии
Стюарт, и это неустанное науськивание делает свое дело. Ненависть, брызжущая с
церковных кафедр, вскоре изливается на улицу. Увлекаемое надеждой увидеть, как
женщину, на которую оно взирало с робостью, волокут в покаянной одежде на
эшафот, то самое простонародье, которое никогда еще в Шотландии не получало ни
слова, ни голоса, требует гласного процесса, и особенно беснуются женщины,
распаленные яростью против королевы. «The women were most furious and impudent
against her, yet the men were bad enough»[138].
Каждая нищенка в Шотландии знает, что позорный столб и костер были бы ее
уделом, если бы она так же безбоязненно отдалась преступной похоти, — так
неужто позволить этой женщине, потому что она королева, безнаказанно блудить и
убивать и уйти от огненной смерти! Все неистовее звучит в стране клич: «На
костер шлюху!» — «Burn the whore!» И, порядком струсив, докладывает английский
посланник в Лондон: «Как бы эта трагедия не кончилась для королевы тем, чем
началась она для итальянца Давида и для супруга королевы».
А лордам
только того и нужно. Тяжелое орудие подкатили, и оно стоит наготове, чтобы вдребезги
разнести всякое дальнейшее сопротивление Марии Стюарт «добровольному отречению».
По требованию Джона Нокса уже готов обвинительный акт для публичного процесса:
Марии Стюарт вменяется в вину «нарушение законов», а, также — и тут с
осторожностью подбирают слова — «предосудительное поведение в отношении Босуэла
и других» («incontinence with Bothwell and others»). Если королева и сейчас не
отречется от престола, можно будет огласить на суде найденные в ларце письма,
прямо говорящие о сокрытии убийства, и тем довершить ее позор. Это вполне оправдало
бы смуту перед всем миром. Изобличенную своей собственной рукой соучастницу
убийства и распутницу не поддержит ни Елизавета, ни другие монархи.
Вооружась
угрозой гласного трибунала, Мелвил и Линдсей едут двадцать пятого июля в Лохливен.
Они везут с собой три изготовленных на пергаменте акта, кои Марии Стюарт
надлежит подписать, если она хочет избежать позора публичного обвинения. Первый
акт гласит, что, наскучив властью, она «рада» избавиться от тягот правления и
что у нее нет ни склонности, ни сил их больше нести. Во втором она изъявляет
согласие на коронование сына; в третьем не возражает против того, чтобы
возложить регентство на ее сводного брата Меррея или другое достойное лицо.
Переговоры
ведет Мелвил, из всех лордов по-человечески самый ей близкий. Он уже дважды
приезжал в надежде уговорить ее расстаться с Босуэлом, кончить свару миром, но
она отказалась внять ему под тем предлогом, что дитя, которое она носит под
сердцем, не должно родиться на свет бастардом. Однако сейчас, когда найдены
письма, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Сначала королева горячо
противится. Она разражается слезами, она клянется, что с жизнью простится
скорее, чем с короной, и этой своей клятве она пребудет верна до последнего
вздоха. Но Мелвил беспощаден; в самых черных красках живописует он то, что ей
предстоит: оглашение писем, очная ставка с изловленными слугами Босуэла и,
наконец, гласный суд — допрос и приговор. С содроганием видит Мария Стюарт, в
какую трясину позора завела ее собственная опрометчивость. Постепенно страх перед
публичным унижением лишает ее мужества. После долгих колебаний, после неистовых
взрывов гнева и отчаяния она сдается и подписывает все три документа.
Итак,
полная договоренность. Но, как и всегда бывало с шотландскими «бондами», ни
одна из сторон не считает себя связанной данным словом и присягой. Невзирая на
обещание, лорды не преминут огласить в парламенте письма Марии Стюарт и
растрезвонят о ее причастности к убийству всему миру, чтобы отрезать ей
возможность отступления. Со своей стороны, и Мария Стюарт отнюдь не считает
себя низложенной каким-то росчерком пера на клочке мертвого пергамента. Все,
что придает нашему существованию смысл и цену — честь, верность, долг, —
никогда не шло для нее в счет по сравнению с ее державными правами,
неотъемлемыми для нее, как жизнь, как кровь, горячо струящаяся в ее жилах.
Несколькими
днями позже совершается коронация малолетнего короля; народ вынужден довольствоваться
более скромным зрелищем, чем оживленное аутодафе на городской площади. Церемония
происходит в Стирлинге, лорд Этол несет корону, Мортон — скипетр, Гленкерн —
меч, а за ними выступает Мар, держа на руках младенца, который отныне будет
именоваться Иаковом VI Шотландским. И то, что обряд помазания совершает Джон
Нокс, свидетельствует перед всем миром, что это дитя, этот внове коронуемый
король навсегда избавлен от тенет римского лжеучения. За воротами замка ликует
народ, празднично звонят колокола, по всей стране зажигают костры. На какое-то
мгновение — увы! всегда лишь на мгновение — в Шотландии вновь воцаряется
радость и мир.
А теперь,
когда с трудной и неприятной работой покончено, ничто не мешает Меррею, этому
актеру на выигрышные роли, вернуться домой триумфатором. Снова блестяще
оправдала себя его коварная тактика — в минуту опасных поворотов отступать в
тень. Он отсутствовал при убийстве Риччо, отсутствовал при убийстве Дарнлея, не
замешан он и в мятеже против сестры; его верность не запятнана, на его руках
нет крови. Все для мудро исчезнувшего со сцены сделало время. Он сумел
расчетливо выждать, поэтому теперь ему с почетом и без малейшего труда само
падает в руки то, чего он втайне алкал. Единогласно предлагают ему, как самому
разумному из лордов, взять на себя регентство.
Но
Меррей, рожденный властвовать, поскольку он умеет властвовать собой, отнюдь не
хватается за предложенную честь. Он слишком умен, чтобы принять ее как милость
от людей, которыми ему должно повелевать. К тому же да никто не подумает, будто
он, любящий и покорный брат, притязает на право, насильственно отнятое у его
сестры. Нет, пусть она сама — психологически мастерский штрих — навяжет ему
регентство: он жаждет полномочий и просьб от обеих сторон — как от восставших
лордов, так и от низложенной королевы.
Сцена
его приезда в Лохливен достойна пера великого драматурга. При виде сводного
брата страдалица неудержимо бросается в его объятия. Наконец-то она обретет
утешение, поддержку, дружбу, а главное — недостающий ей добрый совет. Но Меррей
с нарочитым равнодушием взирает на ее волнение. Он уводит ее в спальню и сурово
пробирает за все, что она натворила, ни единым словом не подавая надежды на
снисхождение. Ошеломленная его холодностью, королева разражается слезами,
оправдывается, защищается. Но прокурор Меррей молчит, молчит и молчит с насупленным
челом. Чтобы поддержать в отчаявшейся женщине страх, он делает вид, будто в его
молчании скрыта еще неведомая угроза.
На всю
ночь оставляет Меррей сестру в этом чистилище страха; пагубный яд
неуверенности, который он по капле влил в нее, должен сперва глубоко
просочиться ей в душу. Беременная женщина, оторванная от мира — иноземным
послам доступ к ней закрыт, — не знает, что ее ждет: гласное обвинение или
суд, позор или смерть. Всю ночь не смыкает она глаз, и к утру силы ее сломлены.
И тут Меррей начинает понемногу применять снисхождение. Осторожно намекает он,
что, если она откажется от попыток к бегству и всяких сношений с иностранными
дворами, а главное — порвет с Босуэлом, быть может, еще удастся — он говорит
это неуверенным тоном — спасти в глазах мира ее честь. Даже это мерцание
надежды вливает жизнь в несчастную, отчаявшуюся женщину. Она бросается в
объятия брата, просит, молит, пусть он возьмет на себя тяготы регентства. Тогда
ее сын будет в полной сохранности, государство — в руках мудрого правителя, а
сама она — в безопасности. Она молит и молит, и Меррей заставляет себя долго
просить при свидетелях, пока великодушно не соглашается принять из ее рук то,
за чем он, собственно, явился. Он уходит довольный, оставляя успокоенную Марию
Стюарт; теперь, когда она знает, что власть в руках ее брата, она тешит себя
надеждой, что пресловутые письма останутся тайной и что честь ее спасена.
Но нет
милости для бессильного. Как только Меррей берет бразды в свои жесткие руки, он
прежде всего старается сделать возвращение сестры невозможным: как регент, он
хочет морально прикончить неудобную конкурентку. Уже и речи нет о ее
освобождении, напротив, все делается для того, чтобы задержать пленницу в ее
узилище. Несмотря на данное Мерреем Елизавете, а также сестре обещание защитить
ее честь, с его ведома и попущения пятнадцатого декабря в шотландском парламенте
позорящие Марию Стюарт письма и сонеты извлекаются из серебряного ларца,
зачитываются вслух, сравниваются с другими документами и признаются подлинными.
Четыре епископа, четырнадцать аббатов, двадцать графов, пятнадцать лордов и более
тридцати мелкопоместных дворян, среди них немало близких друзей королевы,
удостоверяют честью и присягой подлинность писем и сонетов, и ни один голос,
даже из лагеря друзей — немаловажный факт, — не выражает ни малейшего
сомнения. Так парламентское заседание превращается в трибунал, незримо стоит
королева перед судом своих подданных. Все беззакония последних месяцев — смута,
заточение, — едва лишь письма прочтены, узакониваются, и со всей ясностью
заявляется, что королева заслужила свою кару, так как убийство ее супруга
произошло с ее ведома и соизволения (art and part), «что доказано письмами,
писанными ее рукой как до, так и после убийства и обращенными к Босуэлу,
главному зачинщику и коноводу, а также позорным браком, в который она вступила
вскоре после убийства». А чтобы весь мир узнал вину Марии Стюарт и дабы всем
стало ведомо, что честные, добропорядочные лорды лишь из чисто моральных
побуждений восстали против нее, иностранным дворам рассылаются копии писем; так
Марию Стюарт перед всем миром объявляют отверженной и выжигают у нее на лбу
клеймо позора. С алым знаком поношения на челе она уже не осмелится — так
полагают Меррей и лорды — требовать себе корону.
Но Мария
Стюарт столь прочно замурована в сознание своего королевского величия, что ни
поношение, ни поругание не в силах ее смирить. Нет клейма, чувствует она,
которое изуродовало бы лоб, носивший царственный обруч и помазанный елеем
избранничества. Ни пред чьим приговором или приказом не склонит она головы, и
чем больше заталкивают ее под ярмо бесславного прозябания, тем решительнее она
противится. Такую волю не удержишь взаперти; она взрывает самые крепкие стены,
сносит плотины. А если заковать ее в цепи, она будет потрясать ими так, что
содрогнутся камни и сердца.
|


