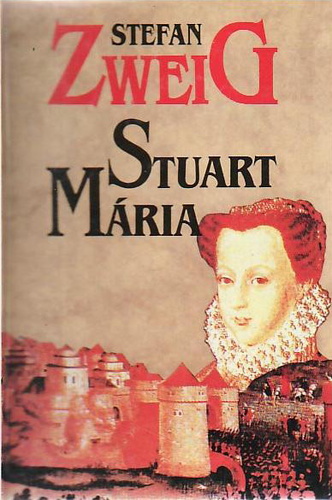
 Увеличить Увеличить |
Вступление
Если
ясное и очевидное само себя объясняет, то загадка будит творческую мысль. Вот
почему исторические личности и события, окутанные дымкой загадочности, ждут от
нас все нового осмысления и поэтического истолкования. Классическим, коронным
примером того неистощимого очарования загадки, какое исходит порой от
исторической проблемы, должна по праву считаться жизненная трагедия Марии
Стюарт. Пожалуй, ни об одной женщине в истории не создана такая богатая
литература — драмы, романы, биографии, дискуссии. Уже три с лишним столетия
неустанно волнует она писателей, привлекает ученых, образ ее и поныне с
неослабевающей силой тревожит нас, добиваясь все нового воспроизведения. Ибо
все запутанное по самой природе своей тяготеет к ясности, а все темное — к
свету.
Но все
попытки отобразить и истолковать загадочное в жизни Марии Стюарт столь же противоречивы,
сколь и многочисленны: вряд ли найдется женщина, которую бы рисовали так
по-разному — то убийцей, то мученицей, то неумелой интриганкой, то святой.
Однако разноречивость ее портретов, как ни странно, вызвана не скудостью
дошедших сведений, а их смущающим изобилием. Сохранившиеся документы,
протоколы, акты, письма и сообщения исчисляются тысячами — ведь что ни год, вот
уже триста с лишним лет, все новые судьи, обуянные новым рвением, решают,
виновна она или невиновна. Но чем добросовестнее изучаешь источники, тем с
большей грустью убеждаешься в сомнительности всякого исторического
свидетельства вообще (а стало быть, и изображения). Ибо ни тщательно
удостоверенная давность документа, ни его архивная подлинность еще не гарантируют
его надежности и человеческой правдивости. На примере Марии Стюарт, пожалуй,
особенно видно, с какими чудовищными расхождениями описывается одно и то же событие
в анналах современников. Каждому документально подтвержденному «да» здесь
противостоит документально подтвержденное «нет», каждому обвинению — извинение.
Правда так густо перемешана с ложью, а факты с выдумкой, что можно, в сущности,
обосновать любую точку зрения. Если вам угодно доказать, что Мария Стюарт была
причастна к убийству мужа, к вашим услугам десятки свидетельских показаний; а
если вы склонны отстаивать противное, за показаниями опять-таки дело не станет:
краски для любого ее портрета всегда смешиваются заранее. Когда же в сумятицу
дошедших до нас сведений вторгается еще и политическое пристрастие или
национальный патриотизм, искажения принимают и вовсе злостный характер. Такова
уж природа человека, что, оказавшись между двумя лагерями; двумя идеями, двумя
мировоззрениями, спорящими, быть или не быть, он не может устоять перед
соблазном примкнуть к той или другой стороне, признать одну правой, а другую
неправой, обвинить одну и воздать хвалу другой. Если же, как в данном случае, и
сами авторы в большинстве своем принадлежат к одному из борющихся направлений,
верований или мировоззрений, то однобокость их взглядов заранее предопределена;
в общем и целом авторы-протестанты возлагают всю вину на Марию Стюарт, а
католики — на Елизавету. Англичане, за редким исключением, изображают ее
убийцею, а шотландцы — безвинной жертвой подлой клеветы. Особенно много споров
вокруг «писем из ларца»; если одни клятвенно защищают их подлинность, то другие
клятвенно ее опровергают. Словом, все до мелочей подцвечено здесь партийным
пристрастием. Быть может, поэтому неангличанин и нешотландец, свободный от
такой кровной зависимости и заинтересованности, более способен судить
объективно и непредвзято; быть может, художнику, охваченному хоть и горячим, но
не партийно-пристрастным интересом, скорее дано понять эту трагедию.
Конечно,
и с его стороны было бы непростительной смелостью утверждать, будто он знает непреложную
правду обо всех обстоятельствах жизни Марии Стюарт. Единственное, что ему доступно, —
это некий максимум вероятности, и даже то, что он по всему своему разумению и
всей совести сочтет за объективную точку зрения, неизбежно будет носить черты
субъективности. Поскольку источники загрязнены, ему приходится в мутных струях
искать свою правду. И так как показания современников противоречивы, он
вынужден на этом процессе в каждой мелочи выбирать между свидетелями обвинения
и свидетелями защиты. Но как бы ни осмотрителен был его выбор, в иных случаях
он поступит всего честней, снабдив свое суждение вопросительным знаком и
признав, что тот или иной эпизод в жизни Марии Стюарт остался темным,
недоступным исследованию и таким, должно быть, останется навсегда.
Поэтому
автор представленного здесь опыта взял себе за правило не обращаться к
показаниям, исторгнутым пыткой и другими средствами запугивания и насилия: тот,
кому дорога истина, не станет полагаться на вынужденные показания как на
заслуживающие доверия. Точно так же и донесения шпионов и послов (в те времена
понятия почти равнозначные) лишь с величайшим отбором принимаются здесь во
внимание и каждый отдельный документ берется под сомнение; и если автор держится
взгляда, что сонеты, а также большая часть «писем из ларца» достоверны, то
пришел он к этому, тщательно взвесив все обстоятельства, а также основываясь на
мотивах внутреннего характера. Повсюду; где в архивных документах сталкиваются
два противоречивых утверждения, автор каждое из них возводил к его истокам и
политическим мотивам, и если бывал вынужден сделать между ними выбор, всегда
сообразовывался с тем, насколько данный поступок психологически созвучен характеру
в целом, что и было для него конечным мерилом.
Ибо сам
по себе характер Марии Стюарт не представляет загадки, он противоречив лишь во
внешнем своем развитии, внутренне же монолитен и ясен от начала до конца. Мария
Стюарт принадлежит к тому редкому, глубоко впечатляющему типу женщин, чья
способность к бурным переживаниям как бы ограничена коротким сроком, к
женщинам, которые знают лишь мгновенный пышный расцвет и расточают себя не
постепенно, а словно сгорая в горниле одной-единственной страсти. До двадцати
трех лет чувства ее все еще покоятся тихой заводью, да и потом, начиная с
двадцати пяти, ни разу не всколыхнутся они бурным прибоем, и только в течение
короткого двухлетия клокочет разбушевавшаяся стихия — так обычная, будничная
судьба превращается в трагедию античного масштаба, великую и величаво
развивающуюся трагедию, подобную «Орестее»[1].
Лишь за это двухлетие предстает перед нами Мария Стюарт поистине трагической
фигурой, только под этим давлением поднимается она над собой, разрушая в
неистовом порыве свою жизнь и в то же время сохраняя ее для вечности. Только
благодаря страсти, убившей в ней все человеческое, имя ее еще и сегодня живет в
стихах и спорах.
Этой
необычайной уплотненностью внутренней жизни, сведенной к единственному мгновенному
взрыву, предуказаны форма и ритм всякого жизнеописания Марии Стюарт; задача
художника — воспроизвести эту круто взлетающую и так же внезапно ниспадающую
кривую во всем ее неповторимом своеобразии. А потому да не сочтут произволом,
что таким большим отрезкам времени, как первые двадцать три года жизни, а также
без малого двадцать лет заточения, здесь отведено столько же места, сколько
двум годам ее трагической страсти. В жизни человека внешнее и внутреннее время
лишь условно совпадают; единственно полнота переживаний служит душе мерилом:
по-своему, не как холодный календарь, отсчитывает она изнутри череду уходящих
часов. В опьянении чувств, блаженно свободная от пут и благословенная судьбой,
она может в кратчайший миг узнать жизнь во всей полноте, чтобы потом,
отрешившись от страсти, снова впасть в пустоту бесконечных лет, скользящих
теней, глухого Ничто. Вот почему в прожитой жизни идут в счет лишь напряженные,
волнующие мгновения, вот почему единственно в них и через них поддается она
верному описанию. Лишь когда в человеке взыграют его душевные силы, он истинно
жив для себя и для других, только когда его душа раскалена и пылает, становится
она зримым образом.
|


