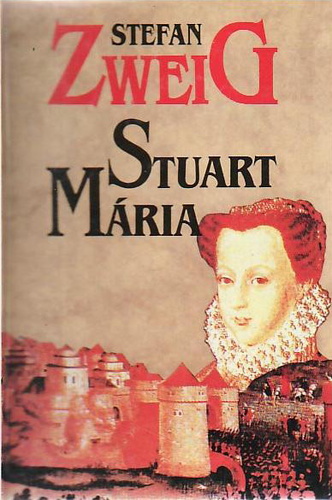
 Увеличить Увеличить |
18. Петля затягивается
(июль 1568 — январь
1569)
Как
только Мария Стюарт неосмотрительно дала исторгнуть у себя согласие на
«нелицеприятное дознание», английское правительство пустило в ход все имеющиеся
у него средства власти, чтобы сделать дознание лицеприятным. Если лордам
разрешено явиться лично, во всеоружии обвинительного материала, то Марии Стюарт
дозволено прислать лишь двух доверенных представителей; только на расстоянии и
через посредников может она предъявить свои обвинения мятежным лордам, тогда
как тем не возбраняется вопить во всеуслышание и втихомолку сговариваться —
этим подвохом ее сразу же вынуждают от нападения перейти к обороне. Все
обещания одно за другим летят под стол. Та самая Елизавета, которой совесть не
дозволяла встретиться с Марией Стюарт до окончания процесса, без колебаний
принимает у себя мятежника Меррея. Никто и не думает о о том, чтобы щадить
«честь» шотландской королевы. Правда, намерение посадить ее на скамью
подсудимых пока хранится в тайне — что скажут за границей! — и официально поддерживается
версия, будто лордам надлежит «оправдаться» в поднятой смуте. Но, лицемерно
призывая к ответу лордов, английская королева, в сущности, ждет от них одного
объяснения: почему они подняли оружие против своей, королевы? А это значит, что
им придется переворошить всю историю убийства и тем самым обратить острие
процесса против Марии Стюарт. Если обвинения будут веские, в Лондоне не
замедлят подвести под арест Марии Стюарт юридическую базу, и необоснованное
лишение свободы предстанет перед миром как обоснованное.
Однако
псевдоразбирательство, именуемое конференцией — только с риском оскорбить правосудие
можно назвать это судом, — превращается в комедию совсем иного сорта, чем
желали бы Сесил и Елизавета. Хотя противников посадили за круглый стол, чтобы
они предъявили друг другу свои обвинения, ни та, ни другая сторона не
обнаруживает большого желания побивать друг друга актами и фактами, и это,
конечно, неспроста. Ибо, обвинители и обвиняемые здесь — такова курьезная
особенность этого процесса, — по сути дела, соучастники одного
преступления: и тем и другим было бы приятнее молчаливо обойти неприглядные
обстоятельства убийства Дарнлея, в котором равно замешана и та и другая
сторона. Если Мортон, Мэйтленд и Меррей могут предъявить ларец с письмами и с полным
правом обвинить Марию Стюарт в пособничестве или по меньшей мере в
укрывательстве, то и Мария Стюарт может с таким же правом изобличить лордов:
ведь они были во все посвящены и своим молчанием потакали убийству. Буде лорды
вздумают положить на стол неблаговидные письма, как бы это не заставило Марию
Стюарт, конечно же знающую от Босуэла, кто из лордов обменялся с ним «бондом»,
а может быть, имеющую в руках и самый «бонд», сорвать маску с этих запоздалых
воителей за своего короля. Отсюда естественное опасение наступить противнику на
горло, отсюда и общий интерес — покончить грязное дело миром и не тревожить
прах бедняги Дарнлея в его гробу. «Requiescat in pace!»[149] — благочестивый клич
обеих сторон.
Так
становится возможным нечто странное и весьма для Елизаветы неожиданное: при
открытии судебного разбирательства Меррей ограничился обвинением Босуэла — он
знает: опасный человек где-то за тридевять земель и не выдаст своих сообщников;
но с редким тактом щадит он сестру. У шотландских баронов точно выскочило из
памяти, что всего лишь год назад сами они на открытой парламентской сессии
обвинили ее в пособничестве убийству. В общем, благородные рыцари не выезжают
на арену с тем лихим молодечеством, на какое рассчитывал Сесил, не швыряют на
судейский стол предосудительные письма, и — вторая, но не последняя особенность
этой изобретательной комедии — английские комиссары тоже на редкость молчаливы
и предпочитают меньше спрашивать. Лорду Нортумберленду, как католику, Мария
Стюарт, пожалуй, ближе, чем его королева, Елизавета; что же касается лорда
Норфолка, то по личным мотивам, о которых мы еще услышим, он тоже клонит к
мировой. Вырисовываются уже и контуры намечаемого соглашения: Марии Стюарт
будут возвращены титул и свобода, зато Меррей сохранит единственно для него
важное — подлинную власть. Итак, вместо громов и молний, должных по расчетам
Елизаветы морально уничтожить Марию Стюарт, — сплошное благорастворение
воздухов. Идет задушевный разговор при закрытых дверях. Там, где предполагалось
бурное обсуждение всяких актов и фактов, царит теплое, дружественное согласие.
Проходит несколько дней, и — поистине странное разбирательство! —
обвинители и обвиняемые, комиссары и судьи, забыв о полученных предписаниях и
неожиданно найдя общий язык, готовы уже похоронить по первому разряду процесс,
задуманный Елизаветой в качестве важнейшей государственной акции против Марии
Стюарт.
Незаменимым
посредником, идеальной свахой, которая, ног под собой не чуя, носится
взад-вперед и улаживает дело, служит все тот же шотландский статс-секретарь
Мэйтленд Летингтонский. В темной заварухе с Дарнлеем он выполнял самую темную
роль, притом, как и подобает прирожденному дипломату, роль двуличную. Когда в
Крэгмиллере к Марии Стюарт явились лорды и стали предлагать, чтобы она
развелась с Дарнлеем либо еще как-нибудь развязалась с ним, от общего их имени
выступил Мэйтленд, и это он уронил туманное замечание о том, что Меррей «не
станет придираться». С другой стороны, это он налаживал ее брачный союз с
Босуэлом, это он «случайно» оказался свидетелем пресловутого похищения и только
в последнюю минуту перебежал к лордам. Если бы дошло до перестрелки между
Марией Стюарт и лордами, не миновать бы ему очутиться в самом пекле. Потому-то
он и готов идти напролом и не остановится и перед самыми недозволенными средствами,
лишь бы добиться полюбовного соглашения.
Для
начала он стращает Марию Стюарт, внушая ей, что, если она заартачится, лорды на
все пойдут для своей защиты, а тогда не избыть ей сраму. И чтобы доказать ей,
каким убийственным для ее чести орудием располагают лорды, он потихоньку
поручает своей жене Мэри Флеминг снять копию с главной улики обвинения — с
любовных писем и сонетов из ларца — и передать эту копию Марии Стюарт.
Тайная
выдача Марии Стюарт еще неизвестного ей обвинительного материала, —
конечно же, шахматный ход Мэйтленда против его коллег, не говоря уже о грубом
нарушении процессуального права. Но и лорды не остаются в долгу и так же
противно всем правилам передают «письма из ларца», так сказать, под судейским
столом, Норфолку и другим английским комиссарам. Для Марии Стюарт это тяжелый
афронт, ведь судьи, только что склонявшиеся к примирению сторон, теперь будут
против нее восстановлены. В особенности Норфолк сражен удушливой вонью, которой
неожиданно понесло из этого ящика Пандоры[150].
Тотчас же сообщает он в Лондон — опять-таки в нарушение правил, но в этой
удивительной тяжбе все идет шиворот-навыворот, — что «необузданная и
грязная страсть, привязывавшая королеву к Босуэлу, ее отвращение к убитому
супругу и участие в заговоре против его жизни так очевидны, что всякий
порядочный и благонравный человек содрогнется и с отвращением отпрянет от этого
ужаса».
Недобрая
весть для Марии Стюарт, зато чрезвычайно радостная для Елизаветы. Теперь она знает,
какой убийственный для чести ее соперницы обвинительный материал может в любую
минуту быть положен на стол, и не успокоится до тех пор, пока он не будет
предан огласке. Чем больше Мария Стюарт склоняется к мировой, тем решительнее
Елизавета требует публичного шельмования. Враждебная позиция Норфолка,
непритворное возмущение, вызванное в нем письмами из пресловутого ларца,
по-видимому, обрекают игру Марии Стюарт на полную безнадежность.
Но как
за игорным столом, так и в политике партия не считается безнадежной, покуда на
руках у противников сохранилась хоть одна карта. В критическую минуту Мэйтленд
выкидывает совсем уже головоломный номер. Он направляется к Норфолку,
продолжительно беседует с ним один на один и — о диво! — вы ошеломлены, вы
глазам своим не верите, читая источники: свершилось чудо, Савл обратился в
Павла[151],
возмущенный, негодующий Норфолк, судья, заранее восстановленный против
подсудимой, стал ревностным ее защитником и доброжелателем. В ущерб своей
повелительнице, добивающейся открытого разбирательства, он хлопочет об
интересах шотландской королевы: он уговаривает ее не Отказываться ни от своей
короны, ни от прав на английский престол, он крепит ее волю, поднимает в ней
дух; В то же время он отговаривает Меррея предъявлять письма, и — о диво! —
у Меррея после укромной беседы с Норфолком тоже меняется настроение. Он стал
кроток и покладист, в полном единодушии с Норфолком готов он валить все на
Босуэла и всячески выгораживать Марию Стюарт; похоже, что за одну ночь погода
изменилась, подул живительный теплый ветер, лед тронулся: еще денек-другой, и
над этим странным судилищем воссияют весна и дружба.
Естественно,
возникает вопрос: что же заставило Норфолка повернуть на сто восемьдесят градусов,
что вынудило судью Елизаветы презреть ее волю и из противника Марии Стюарт
сделаться ей лучшим другом? Первое, что приходит в голову, — это что
Мэйтленд подкупил Норфолка. Но стоит вглядеться поближе, и это предположение
отпадает. Норфолк — самый богатый вельможа Англии, его род лишь немногим
уступает Тюдорам. Денег, потребных на его подкуп, нет не только у Мэйтленда, их
не наскрести во всей нищей Шотландии. И все же, как обычно, первое чувство
самое правильное, Мэйтленду действительно удалось подкупить Норфолка. Он
посулил молодому вдовцу то, чем можно прельстить и самого могущественного
человека, а именно — еще большее могущество. Мэйтленд предложил герцогу руку
королевы и, стало быть, наследственные права на английскую корону. От
королевского же венца по-прежнему исходит магическая сила, которая и в труса
вливает мужество и самого равнодушного делает честолюбцем, а самого
рассудительного — глупцом. Теперь понятно, почему Норфолк, только вчера
убеждавший Марию Стюарт отречься от своих королевских прав, сегодня так
настойчиво советует ей их отстаивать. Он не прочь жениться на Марии Стюарт —
единственно, ради притязания, которое сразу ставит его на место тех самых
Тюдоров, что приговорили к казни его отца и деда, обвинив их в предательстве. И
можно ли вменить в вину сыну и внуку его измену королевской фамилий, которая
расправилась с его собственной фамилией топором палача!
Разумеется,
нам, людям с современными чувствами, кажется чудовищным, что тот самый человек,
который только вчера приходил в ужас от Марии Стюарт, убийцы и прелюбодейки, и
возмущался ее «грязными» любовными похождениями, вдруг вознамерился взять ее в
супруги. И конечно же, апологеты Марии Стюарт сюда-то и толкаются со своей
гипотезой: Мэйтленд будто бы в том разговоре с глазу на глаз убедил Норфолка в
невиновности королевы, доказав ему, что письма подложные. Однако источники об
этом умалчивают, да и Норфолк, спустя несколько недель, защищаясь перед
Елизаветой, опять назовет Марию Стюарт убийцей. Было бы заведомым анахронизмом
переносить наши моральные взгляды назад, в эпоху четырехсотлетней давности:
ведь стоимость человеческой жизни на протяжении различных времен и широт —
понятие далеко не безусловное; каждая эпоха оценивает ее по-разному; мораль
всегда относительна. Наш век гораздо терпимее к политическому убийству, чем
девятнадцатый, но и шестнадцатый был не слишком щепетилен в этом вопросе. Моральная
разборчивость и вообще-то была чужда эпохе, которая черпала свои нравственные
устои не в Священном писании, а в учении Макиавелли: тот, кто в те времена
рвался к трону, не слишком затруднял себя сентиментальными оглядками и не
старался рассмотреть сквозь лупу, обагрены ли ступени трона пролитой кровью. В
конце концов, сцена в «Ричарде III», где королева отдает свою руку заведомому
убийце ее мужа, написана современником, и зрители не находили ее маловероятной.
Чтобы стать королем, убивали отца, изводили ядом брата, тысячи безвинных жертв
ввергали в войну, людей, не задумываясь, устраняли, убирали с дороги; в Европе
того времени вряд ли нашелся бы царствующий дом, который не знал бы за собой
подобных преступлений. Ради, королевского венца четырнадцатилетние мальчики
женились на пятидесятилетних матронах, а незрелые отроковицы выходили за
дряхлых дедушек; никто не спрашивал добродетели, красоты, достоинства и благонравия
— женились на слабоумных, увечных и параличных, на сифилитиках, калеках и преступниках, —
зачем же ждать какой-то особой щепетильности от тщеславного честолюбца
Норфолка, когда молодая, красивая, пылкая государыня не прочь назвать его своим
супругом? Ослепленный честолюбием, Норфолк не оглядывается на то, что сделала
Мария Стюарт в прошлом, он больше занят тем, что она может для него сделать в
будущем; этот болезненный недалекий человек мысленно уже видит себя в
Вестминстере, на месте Елизаветы. Итак, дело внезапно приняло новый оборот:
ловкие руки Мэйтленда ослабили петлю, в которой запуталась Мария Стюарт, и
вместо ожидаемого сурового судьи она вдруг находит жениха и помощника.
Но
недаром у Елизаветы чуткие наушники и неусыпный, склонный к подозрительности
ум. «Les princes ont des oreilles grandes, qui oyent loin et près»[152], —
похвалилась она как-то французскому послу. По сотне незаметных признаков чует
она, что в Йорке варятся какие-то подозрительные снадобья — не будет ей от них
проку. Первым делом призывает она к себе Норфолка и спрашивает с усмешкой, уж
не затеял ли он жениться. Норфолк никакой не герой. Громко и отчетливо пропел
евангельский петух: растерявшись, как уличенный в шалости мальчишка,
новоявленный Петр[153]
— Норфолк тут же отрекается от Марии Стюарт, чьей руки он лишь вчера домогался.
Все это ложь и клевета, никогда бы он не женился на распутнице и убийце.
«Ложась спать, — говорит он с наигранным пафосом, — я хочу быть
уверен, что под подушкой меня не ждет отравленный кинжал».
Елизавета
себе на уме — что она знает, то знает: с гордостью скажет она потом: «Il m’ont
cru si sotte, que je n’en sentirais rien»[154].
Когда эта женщина в неудержимом гневе хватает за шиворот кого-либо из своих
лизоблюдов, тот сразу же вытряхивает из рукава все свои секреты. Теперь она
сама наведет порядок. По ее приказу сессия двадцать пятого ноября переносится
из Йорка в Вестминстер, в Camera Depicta[155].
Здесь, в двух шагах от ее двери, под ее сверлящим взглядом, Мэйтленду труднее
извернуться, чем в Йоркшире, в двух днях езды от Лондона, вдали от ее стражи и
шпионов. К тому же Елизавета в подкрепление комиссарам, не оправдавшим ее
надежд, назначает других, более надежных людей, в первую очередь своего любимца
Лестера. Теперь, когда вожжи прибраны к ее крепким рукам, процесс идет в
быстром темпе, не отклоняясь от указанной цели. Старому ее нахлебнику Меррею
дан ясный и недвусмысленный наказ «защищаться» и к этому опасное напутствие —
не отступать и перед «extremity of odious accusation»[156], иначе говоря, не
стесняясь, предъявить «письма из ларца» в доказательство того, что Мария Стюарт
находилась с Босуэлом в прелюбодейственных отношениях. О торжественной клятве
своей милой кузине, что на процессе не будет произнесено ничего «against her
honour», Елизавета и думать забыла. Лордам, однако, все еще не по себе. Они
медлят, и колеблются и вместо того, чтобы прямо предъявить письма, ограничиваются
общими намеками. И так как открыто приказать им Елизавета не может, не рискуя
выдать свою пристрастность, она пускается на еще большее лицемерие.
Притворяясь, будто она свято уверена в невиновности Марии Стюарт и видит одну
лишь возможность восстановить ее честь — выяснить все до конца, она с
нетерпением любящей сестры требует, чтобы ей были предъявлены все улики, дающие
основание для «клеветы». Она домогается, чтобы письма и любовные сонеты были
положены на судейский стол.
Под
таким давлением лорды наконец уступают. Меррей еще в последнюю минуту
разыгрывает комедию: симулируя сопротивление, он не сам кладет письма на стол,
а, помахав ими, поспешно прячет, предоставляя секретарю «насильно» вырвать у
него всю пачку. И вот, к вящему торжеству Елизаветы, письма на столе, их
зачитывают вслух: сперва один раз, а назавтра, перед расширенной комиссией, в
другой. Лорды, правда, в свое время клятвенно засвидетельствовали их
подлинность, но Елизавете этого мало. Словно предвидя возражения защитников
Марии Стюарт, которые спустя столетия провозгласят, что письма подложные, она
приказывает в присутствии всей комиссии сравнить их самым тщательным образом с
теми, которые шотландская королева писала ей своей рукой. Во время этого
расследования представители Марии Стюарт покидают зал — еще один важный аргумент
в пользу подлинности писем, — вполне резонно заявляя, что Елизавета не
сдержала своего обещания, что не будет допущено ничего порочащего Марию Стюарт
— «against her honour».
Но какая
может быть речь о законности в этом самом беззаконном из судебных
разбирательств, на котором не позволено быть главной обвиняемой, тогда как
обвинителям, таким, как Ленокс, никто не завязывает рта. Не успели
представители Марии Стюарт хлопнуть дверью, как комиссары единогласно выносят
«предварительное постановление» о том, что Елизавете не подобает допускать к
себе Марию Стюарт, пока та не очистится от всех обвинений. Елизавета добилась
своего. Наконец-то сфабрикован предлог, который был ей до смерти нужен, чтобы с
полным правом отвернуться от беглянки; теперь уже нетрудно измыслить основание,
которое позволило бы и впредь содержать узницу «in honourable custody»[157] —
более благоприличный, иносказательный оборот для одиозного слова «заточение». С
торжеством воскликнет один из верных Елизаветы, архиепископ Паркер: «Наконец-то
наша добрая королева держит волка за уши!»
«Предварительное»
ошельмование сделало свое дело: опозоренной Марии Стюарт остается только,
склонив голову и заголив шею, ждать приговора, словно удара топором. Можно уже
официально заклеймить ее именем убийцы и выдать Шотландии, а там Джон Нокс не
знает пощады. Но в этот миг Елизавета подъемлет руку, предупреждая смертельный
удар. Неизменно, когда нужно принять последнее решение, доброе или злое, этой
непостижимой женщине изменяет мужество. Великодушный ли то порыв человечности,
отнюдь ей не чуждой, или же запоздалое раскаяние в том, что она нарушила свое
королевское обещание пощадить честь Марии Стюарт? Дипломатический ли расчет,
или — нередкое у таких загадочных натур — хаотическое смешение самых
противоречивых чувств — трудно сказать, но Елизавета снова отступает перед
возможностью окончательно расправиться с противницей. Вместо того чтобы дать
суду вынести суровый приговор, она откладывает решение и вступает с Марией
Стюарт в переговоры. В душе Елизавета жаждет одного — чтобы эта упрямая,
строптивая, неугомонная женщина оставила ее в покое, она хочет только принизить
ее и усмирить; поэтому она подает Марии Стюарт мысль — еще до произнесения
приговора опротестовать подлинность документов; кроме того, подсудимой через
третьих лиц сообщают, что в случае ее добровольного отречения ей будет вынесен
оправдательный приговор и дозволено свободно проживать в Англии, где ей
назначат государственный пенсион. В то же самое время ее стращают публичной
казнью — все те же методы кнута и пряника, — и Ноллис, доверенный
английского двора, доносит, что сделал все от него зависящее, дабы до смерти
запугать узницу. Итак, опять угрозы и приманки — излюбленный метод Елизаветы.
Но ни
угрозы, ни приманки уже не действуют на Марию Стюарт. Как всегда, обжигающее дыхание
опасности только пришпоривает ее мужество, а вместе с ним растет и ее
самообладание. Она не хочет требовать пересмотра вопроса о подлинности
документов. Пусть с запозданием, она поняла, в какую попалась ловушку, и,
возвращаясь к своей исходной позиции, отказывается вести переговоры со своими
подданными на равной ноге. Довольно ее королевского слова, оно еще должно перевесить
все показания и документальные свидетельства врагов. Наотрез отказывается Мария
Стюарт от предложенной сделки — ценой отречения купить себе милость судей, чьих
правомочий она не признает. И, полная решимости, бросает она посредникам слова,
верность которых докажет потом всей своей жизнью и смертью: «Ни слова о том,
чтобы мне отказаться от своей короны! Чем согласиться, я предпочитаю умереть,
но и последние слова мои будут словами королевы Шотландской».
Итак,
запугать ее не удалось: половинчатым решениям Елизаветы противопоставила Мария
Стюарт свое непреклонное решение. Опять Елизавета колеблется, и, невзирая на
позицию, занятую подсудимой, суд не отваживается на гласный приговор.
Елизавета, как всегда и как мы не раз еще увидим, отступает перед последствиями
своих желаний. В результате приговор звучит не так сокрушительно, как
предполагалось вначале, но со всей предательской двусмысленностью и низостью,
свойственной процессу в целом. Десятого января торжественно выносится хромающее
на обе ноги определение, гласящее, что в действиях Меррея и его сторонников не
усмотрено ничего противного чести и долгу. Это — полное оправдание мятежа,
поднятого лордами. Куда двусмысленнее звучит реабилитация Марии Стюарт: лордам
якобы не удалось привести достаточно убедительных улик, чтобы изменить доброе
мнение королевы о ее сестре. На первый взгляд это можно принять за реабилитацию
подсудимой и за признание обвинения несостоятельным. Но отравленный наконечник
стрелы засел в словах «bene sufficiently». Этим как бы намекается, что улики
были тяжкие и многообразные, но им не хватало той «полноты», какая единственно
могла бы убедить столь добросердечную королеву, как Елизавета. А больше Сесилу
для его планов ничего и не нужно: над Марией Стюарт по-прежнему висит
подозрение, найден достаточный предлог, чтобы держать беззащитную женщину под
замком. На данное время победила Елизавета.
Но это
пиррова победа. Ибо, пока Елизавета держит Марию Стюарт в заточении, в Англии существуют
как бы две королевы, и доколе одна не умрет, в стране не будет мира. Беззаконие
всегда родит беспокойство, и нет проку в том, что добыто хитростью. В тот день,
когда Елизавета отняла у Марии Стюарт свободу, она и себя лишила свободы.
Обращаясь с ней как с врагом, она и ей открывает дорогу для враждебных
действий, преступив клятву, и ее благословляет на любое клятвопреступление,
своей ложью оправдывает ее ложь. Годами будет Елизавета расплачиваться за то,
что ослушалась первого, естественного своего побуждения. Слишком поздно придет
к ней признание, что великодушие в этом случае было бы и мудростью. Незаметно
заглохла бы в песках жизнь Марии Стюарт, если бы Елизавета после дешевой
церемонии прохладного приема отпустила ее из Англии! В самом деле, куда
девалась бы та, что с презрением отпущена на все четыре стороны? Ни один судья,
ни один поэт никогда бы уж за нее не заступился; с печатью зачумленной на лбу
после всех происшедших с ней скандалов, униженная великодушием Елизаветы, она
бесцельно кочевала бы от двора к двору; путь в Шотландию ей преграждал Меррей,
во Франции и Испании не слишком обрадовались бы приезду беспокойной гостьи.
Быть может, по пылкости нрава она запуталась бы в новых любовных приключениях,
быть может, последовала бы за Босуэлом в Данию. Имя ее затерялось бы в веках
или в лучшем случае называлось бы без большого уважения, как имя королевы, сочетавшейся
браком с убийцею своего мужа. И от этой-то безвестной, жалкой доли спасла ее
историческая несправедливость Елизаветы. Это Елизавета позаботилась о том,
чтобы звезда Марии Стюарт воссияла в прежней славе, и, стараясь ее унизить,
лишь возвысила, украсила низвергнутую мученическим венцом. Ни одно из ее
собственных дел не превратило Марию Стюарт в такую легендарную фигуру, как
причиненная ей несправедливость, и ничто не умалило в такой мере моральный
престиж английской королевы, как то, что в решающий миг она упустила
возможность проявить истинное великодушие.
|


