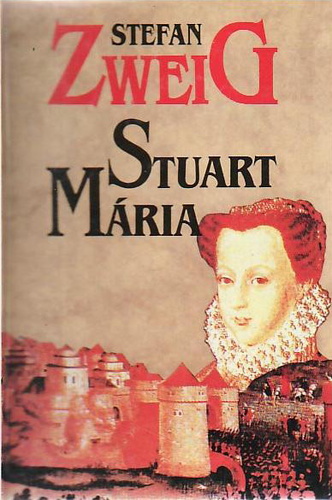
 Увеличить Увеличить |
20. Последний круг
(1584-1585)
А годы
идут и идут, недели, месяцы, годы, как облака, проносятся над этой неприкаянной
головой, словно и не затрагивая ее. Но как ни незаметно, а время меняет
человека и окружающий мир. Марии Стюарт пошел сороковой год — критический возраст
для женщины, а она все еще узница, все еще томится в неволе. Незаметно
подкрадывается старость, в волосах уже мелькает серебро, стройное тело
расплывается, Тяжелеет, черты успокоились, в них сквозит зрелость матроны, на
всем существе лежит печать уныния, которое охотно ищет выхода в религии. Скоро
— женщина глубоко чувствует это — время любви, время жизни уйдет без возврата;
что не сбылось до сих пор, не сбудется вовек, наступил вечер, близка темная
ночь. Давно не появлялось новых искателей ее руки, должно быть, никто уж и не
явится: еще немного — и жизнь навсегда миновала. Так стоит ли ждать и ждать
чуда освобождения, помощи равнодушного, колеблющегося мира? Все сильней и
сильней в эти закатные годы чувствуем мы, что страдалица пресытилась борьбой и
склоняется к отречению и примирению. Все чаще выпадают минуты, когда она
спрашивает себя: а не глупо ли зачахнуть без пользы, без любви, как выросший в
тени цветок, не лучше ли дорогой ценой купить себе свободу, добровольно сняв
корону с седеющей головы? На сороковом году все больше утомляет Марию Стюарт
эта гнетущая, беспросветная жизнь, неукротимое властолюбие постепенно отпускает
ее, уступая место кроткой, мистической воле к смерти. Должно быть, в один из
таких часов она пишет на листке бумаги прочувствованные латинские строки —
полужалобу, полумолитву:
O
Domine Deus! speravi in Те
O
care mi Jesu! nunc libera me.
In
dura catena, in misera poena, desidero Те;
Languendo,
gemendo et genu flectendo
Adoro,
imploro, ut liberes me.
Мое
упованье, Господь всеблагой!
Даруй
мне свободу, будь кроток со мной.
Терзаясь
в неволе, слабея от боли,
Я
в мыслях с тобой.
Упав
на колени, сквозь слезы и пени
Тебя
о свободе молю, всеблагой.
Поскольку
избавители мешкают и колеблются, взор ее обращается к Спасителю. Лучше умереть
— лишь бы не эта пустота, эта неопределенность, это вечное ожидание, и надежда,
и тоска, и неизбежные разочарования! Лишь бы конец — на радость или на горе, с
победой или поражением! Борьба неудержимо близится к концу, потому что Мария
Стюарт всем жаром своей души этот конец призывает.
Чем
дольше тянется эта отчаянная, эта коварная и жестокая, эта величественная и
упорная борьба, тем непримиримее стоят друг против друга обе застарелые
противницы — Мария Стюарт и Елизавета. Политика Елизаветы приносит ей успех за
успехом. С Францией у нее заключен мир. Испания все еще не отваживается на
войну, над всеми недовольными одержала она верх. И только один враг, смертельно
опасный враг, все еще живет безнаказанно у нее в стране, одна эта побежденная
женщина. Лишь устранив последнего недруга, может она почувствовать себя
подлинной победительницей. Да и у Марии Стюарт не осталось для ненависти иного
объекта, нежели Елизавета. Снова в минуту предельного отчаяния обращается она к
своей родственнице, к данной ей роком сестре, с неодолимой страстностью взывая
к ее человечности. «Нет у меня больше сил страдать, — воплем, вырывается у
нее в этом благородном послании, — и, умирая, я не могу не назвать тех,
кто замыслил меня извести. Самых закоренелых злодеев в Ваших тюрьмах
выслушивают, им называют имена их наветников и клеветников. Так почему же в
этом отказывают мне, королеве. Вашей кузине и законной наследнице престола? Мне
думается, что именно последнее обстоятельство и было до сей поры причиной
лютости моих врагов… Но увы! У них нет больше необходимости меня мучить, ибо, честью
клянусь, не нужно мне теперь иного царства, кроме царства небесного, в кое
чувствую я себя готовой войти, ибо лишь в нем обрету конец тяготам моим и
мучениям». В последний раз со всем жаром неподдельной искренности заклинает она
Елизавету даровать ей все же свободу: «Честью и смертными муками Спасителя и
Избавителя нашего заклинаю, смилосердствуйтесь, дозвольте мне оставить это
государство и удалиться на покой куда-нибудь в укромное место; там усталое
тело, изнуренное неизбывной печалью, обретет отдых, и ничто не помещает мне
спокойно готовиться предстать Всевышнему, каждодневно призывающему меня к себе…
Окажите мне эту милость еще до моей кончины, и душа моя, ибо теперь распря меж
нами устранена, не будет вынуждена, освободившись от земных уз, принести свои
жалобы Творцу, указав на Вас как на виновницу зла, причиненного мне здесь, на
земле». Но душераздирающий зов не тронул сердце Елизаветы, она остается нема,
ни одного подбадривающего слова не находится у нее для страдалицы. И тогда
Мария Стюарт стискивает зубы и кулаки. Отныне она знает одно только чувство —
ледяную и пламенную, упорную и испепеляющую ненависть к этой женщине, и эта
ненависть тем зорче и непримиримее нацелена именно на нее, единственную, что
все ее другие враги и противники кончили земное существование, сами порешив
друг друга. Как будто для того, чтобы таинственная магия смерти, исходящая от
Марии Стюарт и поражающая всех, кто ее ненавидел или любил, проявилась со всей
очевидностью, каждый, кто служил ей или враждовал с ней, кто боролся за или
против нее, опередил ее и смерти. Все те, кто свидетельствовал против нее в
Йорке — Меррей и Мэйтленд, — умерли насильственной смертью, все, кто
призван был ее судить — Нортумберленд и Норфолк, — сложили голову на
плахе; все, кто сначала умышлял против Дарнлея, а потом против Босуэла, убрали
друг друга с дороги; предатели Керк о’Филда, Карберри и Лангсайда предали сами
себя. Все эти своенравные шотландские бароны и графы — неистовая, опасная, честолюбивая
свора — истребили друг друга! Поле битвы опустело. Не осталось никого на земле,
кого бы ей должно было ненавидеть, кроме нее, Елизаветы. Великая борьба
народов, ознаменовавшая два десятилетия, ныне свелась к единоборству. И в этом
поединке женщины с женщиной не осталось места ни для каких переговоров. Это бой
не на жизнь, а на смерть.
Для
этого последнего боя, боя насмерть, Марии Стюарт нужно сделать последнее
напряжение. Еще одной, последней надежды должна она лишиться. Еще один удар
должна принять в самое больное место, чтобы потом собраться с силами для
последнего рывка. Ибо всегда в Марии Стюарт, ее великолепное мужество, ее
неукротимая отвага приходят в ту минуту, когда все потеряно или кажется
потерянным. Всегда безысходность пробуждает в ней геройство.
Последняя
надежда, которую ей предстоит утратить, — надежда договориться с сыном.
Ибо за гнетущие пустые годы, когда решительно ничего не происходило, когда она
только и делала, что ждала и слушала, как безостановочно бегут часы, словно
песок, осыпающийся с полуразрушенной башни, за это нескончаемое время, которое
так измотало и состарило ее, подросло дитя, ее кровный сын. Младенцем оставила
она Иакова VI, уезжая из Стирлинга, когда Босуэл со своими всадниками захватил
ее перед Эдинбургскими воротами и увлек навстречу гибели; за эти десять,
пятнадцать, семнадцать лет бессознательное существо успело стать ребенком,
мальчиком, юношей, почти мужчиной. Иаков VI унаследовал немало черт своих
родителей, хотя и в смешанной, стертой форме. Этот странноватый мальчик, с
неловким, неповоротливым языком, неуклюжим, тяжеловесным телом и нерешительной,
робкой душой, на первый взгляд производит впечатление не вполне нормального. Он
избегает общества, трепещет при виде ножа, боится собак, груб и неловок в обращении.
В нем незаметно ни изысканной грации, ни природного обаяния его матери, не
выказывает он и артистических склонностей, ни музыка, ни танцы его не увлекают,
не заметно в нем и таланта к легкой, непринужденной беседе. Зато у него
способности к языкам и превосходная память, а там, где дело касается его личных
интересов, он обнаруживает и ум и упорство. Роковым образом сказалась на его
характере мелочная, низменная натура отца. Он, унаследовал от Дарнлея его
нетвердую волю, его нечестность и ненадежность: «Чего ждать от такого
двуречивого малого!» — как-то в сердцах сказала о нем Елизавета; подобно
Дарнлею, он поддается любому влиянию. Сердцу этого черствого эгоиста неведомо
благородство, все его поступки диктуются чисто внешним честолюбием, а его бесчувственное
отношение к матери можно понять, только если отвлечься от представлений о
сыновнем долге, сыновней преданности. Воспитанный заядлыми врагами Марии
Стюарт, имея преподавателем латыни Джорджа Бьюкенена, человека, написавшего на
нее пресловутый пасквиль «Detectio»[162],
он, должно быть, только и слышал о пленнице, томящейся в заточении в соседней
стране, что она помогла лишить жизни его отца, а теперь оспаривает право на
престол у него самого, коронованного монарха. С раннего детства вдалбливают
мальчику, что его мать, в сущности, чужая ему женщина, досадная помеха на пути
его честолюбивых устремлений. И если в душе ребенка когда-либо жила мечта
увидеть женщину, даровавшую ему жизнь, то английские и шотландские тюремщики
зорко следили за тем, чтобы помешать малейшему сближению обоих пленников —
Марии Стюарт, пленницы Елизаветы, и Иакова VI, пленника лордов и регента. Время
от времени, всего несколько раз за много-много лет, обмениваются они письмами:
Мария Стюарт посылает подарки, игрушки, а как-то даже забавную обезьянку, но и
дары и письма обычно отвергаются, так как она упорно не признает за сыном прав
на королевский титул, а лорды возвращают, как оскорбительные, письма, где Иаков
именуется просто принцем. Мать и сын так и не выходят за пределы чисто официальных,
холодных отношений, у обоих властолюбие заглушает голос крови, ибо она хочет
быть единодержавной королевой Шотландии, а он — единодержавным королем.
Какое-то
сближение становится возможным, когда Мария Стюарт отказывается от своего
непримиримого отношения к факту коронования ее сына лордами и выражает
готовность признать за ним некоторые права на корону. Разумеется, она и теперь
не намерена отречься от королевского титула, и жить и умереть она хочет
миропомазанницей с венцом на челе, но, чтобы купить себе свободу, готова делить
его с сыном. Впервые мелькает у нее мысль о компромиссе. Пусть сын правит и
зовется королем, лишь бы и ей позволили именоваться королевой, лишь бы на ее
отречение был наведен стыдливый глянец сусальной позолоты! Постепенно завязываются
тайные переговоры. Однако Иаков VI, на которого давят лорды, ведет их как
расчетливый игрок. Без зазрения совести торгуется он одновременно с обеими
сторонами, ходит Марией Стюарт под Елизавету, а Елизаветой под Марию Стюарт и
ставит попеременно на обе религии, готовый отдать предпочтение той стороне, которая
дороже заплатит, ибо для него это не вопрос чести: ему важно остаться королем
Шотландии и в то же время обеспечить себе право на английский престол; он хочет
наследовать не одной, а обеим женщинам. Он не прочь остаться протестантом,
поскольку это ему выгодно, но склоняется и к католицизму, буде там лучше
заплатят; мало того, семнадцатилетний юноша, чтобы обеспечить себе английскую
корону, не отступает и перед вовсе уж неблаговидной сделкой: он готов жениться
на изрядно побитой молью Елизавете, даром что та на девять лет старше его
матери и к тому же ее испытанная противница и соперница. Для Дарнлея-младшего
эти переговоры — вопрос простого расчета, тогда как Мария Стюарт, все еще
живущая иллюзиями и чуждая реальной жизни, пылает и трепещет, воодушевленная
последней надеждой — путем соглашения с сыном вырваться на свободу и в то же
время остаться королевой.
Но
Елизавета сразу же бьет тревогу. Она боится, как бы мать с сыном не
договорились. Не теряя ни минуты, вторгается она в еще неокрепшую пряжу
переговоров. Циническое знание людей подсказывает ей, чем взять неустойчивого
юношу: игрой на его человеческих слабостях. Она посылает молодому королю,
помешанному на охоте, отборных лошадей и собак. Она подкупает его советников и
предлагает ему самому ежегодный пенсион в пять тысяч фунтов, что при вечных недостатках
у шотландского двора само по себе является решающим доводом; кроме того, она
пускает в ход испытанную приманку — английское престолонаследие. Как и обычно,
дело решают деньги. В то время как ничего не подозревавшая Мария Стюарт
продолжает дипломатическую игру на пустом месте, вкупе с папою и испанским
королем строит воздушные замки насчет католической Шотландии, Иаков VI тишком
подписывает договор с Елизаветой, где подробно изложено, что эта сделка
принесет ему как в деньгах, так и в других благах, но где ни словом не
упомянут, казалось бы, более чем уместный здесь пункт об освобождении его
матери. Ни единой строчки о пленнице, совершенно ему безразличной, раз с нее
больше ничего не возьмешь. Через голову матери, как будто ее и нет на свете,
договаривается сын со злейшим ее врагом. Пусть женщина, даровавшая ему жизнь,
теперь, когда от нее больше нечего ждать, оставит его в покое! Как только
договор подписан и милый сынок разжился деньгами и собаками, он сразу же
обрывает переговоры с матерью. Стоит ли церемониться с бессильной женщиной! По
поручению его величества короля составляется строжайший рескрипт, где в грубо
канцелярском тоне сообщается, что Мария Стюарт навсегда лишена титула и всех
прав королевы Шотландской… Отняв у противницы державу, корону, власть и
свободу, бездетная соперница отнимает у нее еще и последнее — сына. Наконец-то
она окончательно отомщена.
Победа
Елизаветы означает полный крах последних иллюзий Марии Стюарт. Вслед за мужем,
вслед за братом, вслед за подданными от нее отвернулся сын, ее кровное дитя, и
теперь она одна в целом мире. Ее разочарованию, ее возмущению нет границ.
Отныне ей ни до кого дела нет. Ни с кем она больше считаться не будет! Раз сын
от нее отрекся, что ж, и она отречется от сына. Раз он продал ее права на
престол, она продаст его права. И она называет Иакова VI выродком, ослушником,
неблагодарным, испорченным мальчишкой, она проклинает его и грозит, что по
завещательному распоряжению лишит его не только шотландской короны, но и
английских преемственных прав. Чем такому изменнику и еретику, пусть лучше
престол Стюартов достанется чужому государю! С этим твердым решением она
предлагает Филиппу II шотландские и английские преемственные права, если тот
обещает бороться за ее освобождение и смирить Елизавету, убийцу всех ее надежд.
Что ей теперь ее страна, ее сын! Лишь бы жить подольше, лишь бы вырваться на
свободу и победить! Отныне она ничего не боится и самые отчаянные решения ей не
страшны. Кто все потерял, тому больше нечего терять.
Годами в
измученной, униженной женщине накапливались гнев и озлобление. Годами надеялась
она, торговалась, интриговала, злоумышляла и искала возможностей договориться.
Ныне мера ее терпения исполнилась. Точно вырвавшееся на волю пламя, вспыхнула
подавленная ненависть к мучительнице, узурпаторше, палачихе. Уже не только как
королева на королеву — как женщина на женщину бросается Мария Стюарт на
Елизавету, словно норовя выцарапать ей глаза. Поводом служит ничтожный
инцидент: графиня Шрусбери, злобная истеричка и интриганка, под горячую руку
обвинила Марию Стюарт в том, что у той амуры с ее супругом. Глупая бабья
сплетня, разумеется, и сама графиня ей не верила, но Елизавета, не пропускавшая
случая повредить доброй славе своей соперницы, постаралась, чтобы эта
скандальная история дошла до иностранных дворов, так же как в свое время она
разослала всем иностранным государям пасквиль Бьюкенена вместе с «письмами из
ларца». И тут Мария Стюарт взвилась на дыбы. Мало того что у нее отняли власть,
свободу, последнюю надежду и сына, надо еще коварно запятнать ее честь! Ее,
которая живет в затворничестве монахиней, не зная ни радостей, ни утех любви,
хотят выставить на поругание, как блудодейку, покушающуюся на святость
семейного очага! Ее раненая гордость восстает и требует удовлетворения, и
графиня Шрусбери на коленях отрекается от своей бесчестной лжи. Однако Марии
Стюарт совершенно точно известно, кто воспользовался этой ложью, чтобы смешать ее
с грязью; она почуяла предательскую руку противницы и на удар, из-за угла
нанесенный ее чести, отвечает открытым ударом. Давно уже грызет ее злобное
нетерпение, давно хочется ей, как женщина женщине, высказать этой якобы
девственной королеве, которая тщится слыть зерцалом добродетели, всю
неприкрытую правду. И она пишет Елизавете письмо, будто бы затем, чтобы
уведомить ее по дружбе, какую клевету и небывальщину распространяет графиня
Шрусбери насчет ее частной жизни, на самом же деле чтобы бросить в лицо «милой
сестрице», что уж ей-то никак не пристало разыгрывать непорочную и порочить
других. В письме, дышащем лютой ненавистью, удар следует за ударом. Все слова
жестокой правды, какие одна женщина может высказать другой, здесь высказываются
вслух, все дурные черты Елизаветы высмеиваются ей в глаза, все ее женские
секреты безжалостно выволакиваются на свет. Мария Стюарт сообщает Елизавете
якобы «по дружбе», а на самом деле чтобы смертельно ее уязвить, что графиня
Шрусбери говорит про нее, будто она так тщеславна и так высоко мнит о своей
красоте, словно она сама царица небесная. Она, мол, ненасытно жадна до лести и
требует от своих потакателей, чтобы те постоянно ей кадили и превозносили ее до
небес, сама же в припадке раздражения истязает своих придворных дам и
горничных. Одной она будто бы сломала палец, другую, которая ей не угодила,
прислуживая за столом, ударила ножом по руке. Но все это лишь скромные нападки
по сравнению с ужасными разоблачениями из интимной жизни Елизаветы. Графиня Шрусбери,
по словам Марии Стюарт, уверяет, будто на ляжке у Елизаветы гнойная язва —
намек на сифилитическое наследие ее отца; она, мол, уже старуха и кончает
носить крови, а все еще падка до мужчин. И не то чтобы она довольствовалась
одним (графом Лестером), с которым спала несчетное число раз — «infinies
foys», — она не пропускает ни одного случая потешить свою плоть и ни за
что не откажется от своей свободы забавляться и получать удовольствие со все
новыми и новыми любовниками — «jamais perdre la liberté de vous fayre d’amour
et avoir vostre plésir toujours avecques nouveaulx amoureulx». Среди ночи
пробирается она в спальни мужчин в одной рубашке и накидке, и эти приключения
обходятся ей недешево. Мария Стюарт называет имена и приводит подробности. И,
не щадя ненавистную, наносит ей жестокий удар в самое больное место. С
насмешкой ставит она ей на вид (кстати, и Бен Джонсон открыто рассказывал об
этом собутыльникам), что она, несомненно, не похожа на всех женщин, а потому
глупости болтают все те, что притворно ждут ее предполагаемой свадьбы с
герцогом Анжуйским, потому что этого быть не может. «Undubitablement vous
n’estiez pas comme les autres femmes, et pour ce respect c’estoit follie à tous
ceulx qu’affectoient vostre manage avec le duc d’Anjou, d’aultant qu’il ne se
pourroit accomplir». Да пусть Елизавета знает, что ее ревниво оберегаемая тайна
стала общим достоянием — тайна ее женского убожества, дозволяющего любострастие,
но не подлинную страсть, извращенную игру, но не полное обладание, тайна,
навсегда лишающая ее радостей королевского союза и материнства. Ни одна женщина
на свете не говорила этой всесветной властительнице всю неприкрытую правду, как
сказала эта узница из своего заточения: замороженная на двадцать лет ненависть,
удушливый гнев и скованные силы вдруг берут свое — они вздыбливаются в яростном
порыве, и удар разъяренной тигрицы метит в самое сердце мучительницы.
После
такого неистового, дерзкого письма нечего и думать о примирении. Женщина,
написавшая это письмо, и женщина, это письмо получившая, не могут больше дышать
одним воздухом, жить в одной стране. Hasta al cuchillo, как говорят испанцы,
война не на жизнь, а на смерть, бой на ножах — единственное, что им остается.
После двадцатилетних неустанных упорных козней и вражды всемирно-историческая
борьба Марии Стюарт и Елизаветы наконец достигла высшего накала, поистине можно
сказать, что дело дошло до ножа. Контрреформация исчерпала все свои
дипломатические средства, а до военных еще не добралась. В Испании по-прежнему
кропотливо и прилежно строят Армаду[163]
— несмотря на сокровища Индии, у этого злополучного двора всегда не хватает
денег, не хватает решимости. Почему бы, думает Филипп Благочестивый, — как
и Джон Нокс, он видит в физическом уничтожении неверного дело, угодное
небу, — почему бы не избрать более дешевый способ — подкупить двух-трех
убийц, которые без долгих сборов уберут с дороги Елизавету, опору еретиков? Век
Макиавелли и его последователей не страдает излишней щепетильностью, когда дело
идет о власти, а ведь здесь противостоят решения неоглядной важности — вера
против веры. Юг против Севера: один-единственный удар кинжалом, нацеленный в
сердце Елизаветы, может освободить мир от ереси.
Стоит
политическим страстям накалиться добела, как рушатся все моральные и правовые
преграды, исчезает последняя оглядка на порядочность и честь, и даже убийство
из-за угла выдается за жертвенное деяние. После отлучения Елизаветы в 1570
году, а в 1580 — Вильгельма Оранского[164]
оба архисупостата католического мира объявлены вне закона, а с тех пор, как
папа одобрил избиение шести тысяч человек, восславив Варфоломеевскую ночь как
некое достохвальное деяние, каждому католику известно, что, устранив одного из
этих заклятых врагов истинной веры, он совершит благородный подвиг. Достаточно
смелого, верного удара кинжалом или меткого выстрела, как, выйдя из своего
узилища, Мария Стюарт поднимется по ступенькам трона, и Англия с Шотландией
объединятся в правой вере. Когда так многое поставлено на карту, недопустимо
медлить и колебаться; без всякого зазрения испанское правительство ставит на
повестку дня в качестве важнейшей своей политической задачи вероломное убийство
Елизаветы; Мендоса, испанский посол, называет в депеше «убийство королевы»
(killing the Queen) весьма желательной мерой; наместник Нидерландов герцог
Альба полностью присоединяется к этому мнению, а властитель обоих миров Филипп
II на докладной записке о предполагаемом убийстве Елизаветы пишет: «С нами
бог!» Уже не на дипломатические комбинации и военные действия возлагаются
надежды, а на клинок убийцы. И тут и там не стесняются в средствах: в Мадриде
убийство Елизаветы одобрено Тайным советом и на него получено согласие короля;
в Лондоне Сесил, Уолсингем и Лестер тоже единодушны в том, что с Марией Стюарт
надо покончить насильственным образом. Никакие обходы и лазейки больше
невозможны, давно просроченный счет можно погасить только кровью. Вопрос лишь в
том, кто поспеет первым — реформация или контрреформация, Лондон или Мадрид,
Мария ли Стюарт устранит Елизавету, Елизавета ли Марию Стюарт.
|


