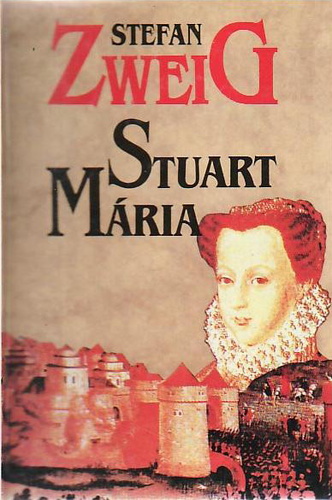
 Увеличить Увеличить |
13. Quos deus perdere
vult…[122]
(февраль — апрель 1567)
Страсть
способна на многое. Она может пробудить в человеке небывалую, сверхчеловеческую
энергию. Она может своим неослабным давлением выжать даже из уравновешенной
души поистине титанические силы и, ломая все нормы и формы узаконенной
нравственности, отважиться и на преступление. Но так же неотъемлемо для нее
другое: после стихийного взрыва пароксизм страсти, как бы истощив себя, никнет,
спадает. И этим, по существу, отличается преступник по страсти, действующий в
состоянии аффекта, от подлинного, прирожденного, закоренелого преступника. У
случайного преступника, преступника по страсти, обычно хватает сил лишь на
самое деяние, и очень редко на его последствия. Действуя по первому побуждению,
слепо устремленный на задуманное, он все свои душевные силы отдает
одной-единственной цели; но едва она достигнута, едва деяние совершено, как вся
его энергия словно отливает, уходит решимость, изменяет разум, отказывает мудрость,
и это в то самое время, как трезвый, расчетливый преступник вступает со
следователями и судьями в изворотливый поединок. Не для самого деяния, как мы
видим у преступника по страсти, а для последующей самозащиты приберегает он
максимум своих душевных сил.
Марии
Стюарт — и это не умаляет, а возвышает ее в глазах потомства — не хватило
мужества для той преступной ситуации, в которую поставила ее зависимость от
Босуэла, ибо если она и сделалась преступницей, то лишь по безрассудству
страсти, не своей, а чужой волею. В свое время у нее недостало сил
предотвратить катастрофу, а теперь, когда дело сделано, она и вовсе
растерялась. Ей остается одно из двух: или решительно, с чувством омерзения
порвать с Босуэлом, который, в сущности, зашел дальше, чем она внутренне
допускала, отмежеваться от его деяния, или же, наоборот, помочь ему замести
следы, а следовательно, лицемерить, надеть личину страдания, чтобы отвести
подозрение от него и от себя. Но вместо этого Мария Стюарт делает самое
безрассудное, самое нелепое, что только можно сделать в ее положении, — то
есть ровно ничего. Она остается нема и недвижима и этой полной растерянностью
выдает себя с головой. Как заводная игрушка, автоматически выполняющая
несколько предписанных движений, она в каком-то трансе покорности подчинилась
всем приказаниям Босуэла: поехала в Глазго, успокоила Дарнлея и завлекла его обратно
домой. Но завод кончился, и механизм бездействует. Именно сейчас, когда ей надо
разыграть безутешную скорбь и потрясти патетической игрой весь мир, чтобы он
безоговорочно поверил в ее невиновность, именно сейчас она устало роняет маску;
какое-то окаменение чувств, жестокий душевный столбняк, какое-то необъяснимое
равнодушие находит на нее; безвольная, она и не пытается защищаться, когда над
ней дамокловым мечом нависает подозрение.
Этот
странный душевный столбняк, поражающий человека в минуты опасности и словно замораживающий
его, обрекая на полное бездействие и безучастие в минуты, когда ему особенно
необходимы притворство, самозащита и внутренняя собранность, сам по себе не
представляет ничего необычного. Подобное окаменение души — лишь естественная
реакция на чрезмерное напряжение, коварная месть природы тому, кто нарушает ее
границы. У Наполеона в канун Ватерлоо исчезает вея его дьявольская сила воли;
молча, как истукан, сидит он и не отдает распоряжений, хотя именно сейчас, в
минуту катастрофы, они особенно необходимы; куда-то внезапно утекли его силы,
как утекает вино из продырявленной бочки. Подобное же оцепенение находит на
Оскара Уайльда перед арестом; друзья вовремя предупредили его, у него довольно
времени и денег, он может сесть в поезд и бежать через Ла-Манш. Но и на него
нашел столбняк, он сидит у себя в номере и ждет — ждет неизвестно чего — то ли
чуда, то ли гибели. Только подобные аналогии — а история знает их тысячи — помогают
нам уяснить поведение Марии Стюарт, ее нелепое, бессмысленное, предательски
пассивное поведение тех недель, которое, собственно, и навлекло на нее
подозрение. До самой катастрофы ничто не указывало на ее договоренность с
Босуэлом, ее поездка к Дарнлею могла и вправду означать попытку примирения. Но
после смерти Дарнлея его вдова сразу же оказывается в фокусе общего внимания, и
теперь либо ее невиновность должна со всей очевидностью открыться миру, либо
притворство должно поистине стать гениальным. Но судорожное отвращение к
притворству и лжи, видимо, владеет несчастной. Вместо того чтобы рассеять
законное подозрение, она полным безучастием еще усугубляет свою вину в глазах
мира, представляясь более виновной, чем даже, возможно, была. Подобно
самоубийце, бросающемуся в бездну, закрывает она глаза, чтобы ничего не видеть,
ничего не чувствовать, она словно жаждет погрузиться в небытие, где нет места
мучительному раздумью и сомнению, а только конец, гибель. Вряд ли история
криминалистики когда-либо являла миру другой такой патологически законченный
образец преступника по страсти, который в своем деянии истощает все силы и
гибнет. Quos Deus perdere vult… Кого боги замыслили погубить, у того они
отнимают разум.
Ибо как
повела бы себя невинная, честная, любящая жена-королева, когда бы посланный принес
ей среди ночи ужасную весть, что супруг ее только что убит неведомыми злодеями?
Она вскочила бы, точно ужаленная, как если б крыша пылала у нее над головой.
Она кричала бы, бесновалась, требовала бы, чтобы виновных тотчас схватили. Она
бросила бы в тюрьму всякого, на кого пала хоть тень подозрения. Она воззвала бы
к сочувствию народа, она просила бы чужеземных государей задерживать на своих
рубежах всех беглых из ее страны. Так же как после кончины Франциска II, заперлась
бы она в своей опочивальне и, не выходя ни днем, ни ночью, изгнала бы на долгие
недели и месяцы всякое помышление о мирских радостях, развлечениях и веселье в
кругу друзей, а главное, не знала бы ни отдыха, ни покоя, пока не был бы
схвачен и казнен каждый соучастник злодеяния, каждый виновный в преступном
укрывательстве.
Вот как,
казалось бы, должна была проявить себя честная, истинно любящая жена, на
которую нежданно-негаданно обрушилось такое известие. И каким это ни звучит
парадоксом, примерно эти же чувства, по законам логики, должна была бы
симулировать соучастница преступления, ибо ничто так не страхует преступника от
подозрений, как вовремя надетая личина невинности и неведения. А между тем
Мария Стюарт выказывает после катастрофы такое чудовищное равнодушие, что это
бросилось бы в глаза даже самому наивному человеку. Ни следа того возмущения,
той мрачной ярости, в которую ввергло ее убийство Риччо, или меланхолической
отрешенности, которая овладела ею после смерти Франциска II. Она не посвящает
памяти Дарнлея прочувствованной элегии, вроде той, какую написала на смерть
первого мужа, но с полным самообладанием спустя лишь несколько часов после
получения страшной вести подписывает увертливые послания ко всем иноземным
дворам, чтобы хоть как-то объяснить убийство, а главное, выгородить себя. В
этой более чем странной реляции все поставлено на голову, и дело рисуется так,
будто убийцы покушались на жизнь не столько Дарнлея, сколько самой Марии
Стюарт. По этой, официальной, версии заговорщики якобы находились в заблуждении,
полагая, что королевская чета ночует в Керк о’Филде, и только чистая
случайность, а именно то, что королева вернулась на свадебное пиршество,
помешала ей погибнуть вместе с королем. Бестрепетной рукой подписывает Мария
Стюарт заведомую ложь: королеве-де пока еще неведомо, кто истинные виновники злодеяния,
но она полагается на рвение и усердие своего коронного совета, которому
поручено учинить розыск; она же намерена так покарать злодеев, чтобы это стало
острасткой и примером на все времена.
Такая
подтасовка фактов слишком бросается в глаза, чтобы обмануть кого-либо. Весь
Эдинбург видел, как королева в одиннадцатом часу вечера во главе большой
кавалькады, далеко озарившей ночь факелами, возвращалась в Холируд из
уединенной усадьбы Керк о’Филда. Весь город знал, что она не ночует у мужа, и,
значит, сторожившие в темноте убийцы заведомо не покушались на ее жизнь, когда
три часа спустя взорвали дом. Да и взрыв был произведен лишь для отвода глаз,
скорее всего Дарнлея придушили злодеи, заранее проникшие в дом, —
очевидная несуразность официального сообщения лишь усиливает чувство, что дело
не чисто.
Но как
ни странно, Шотландия молчит; не только безучастность Марии Стюарт в эти дни
настораживает мир, настораживает и безучастность страны. Вы подумайте:
случилось нечто невероятное, неслыханное даже в анналах этой кровью писанной
истории. Король Шотландский убит в своей столице, мало того, пал жертвою
взрыва. И что же происходит? Содрогнулся ли весь город от ужаса и негодования?
Стекаются ли из своих замков дворяне и бароны, чтобы защитить королеву, чья
жизнь будто бы в опасности? Взывают ли проповедники со своих кафедр о
возмездии? Предпринимают ли власти необходимые меры для разоблачения убийц?
Запирают ли городские ворота, берут ли сотнями под стражу подозрительных лиц и
пытают ли их на дыбе? Закрывают ли границы, проносят ли тело убиенного по
улицам в траурном шествии всей шотландской знати? Воздвигают ли катафалк на
площади, освещая его свечами и факелами? Созывают ли парламент, чтобы заслушать
донесение о неслыханном злодеянии и вынести приговор? Собираются ли лорды,
защитники трона, на крестное целование, чтобы клятвенно подтвердить свою
готовность преследовать убийц? Ничего этого нет и в помине. Странная, зловещая
тишина следует за ударам грома. Королева, вместо того чтобы, воззвать к народу,
заперлась во дворце. Хранят молчание лорды. Ни Меррей, ни Мэйтленд не подают
признаков жизни, притаились все те, кто преклонял перед королем колено. Они не
осуждают убийство и не славят его, настороженно затаились они в тени и ждут,
как развернутся события; чувствуется, что гласное обсуждение цареубийства им
пока не по нутру, ведь так или иначе они были во все посвящены. Да и горожане
запираются в четырех стенах и только с глазу на глаз обмениваются догадками.
Они знают: маленькому человеку лучше не соваться в дела больших господ, того
гляди притянут за чужие грехи. Словом, на первых порах все идет так, как и
рассчитывали убийцы: будто произошло пусть и досадное, но не слишком
значительное происшествие. В истории Европы, пожалуй, не было случая, чтобы
весь королевский двор, вся знать, весь Город с такой постыдной трусостью
старались прошмыгнуть мимо цареубийства; всем на удивление забывают о самых
элементарных мерах для прояснения обстоятельств убийства. Ни полицейские, ни
судебные власти не осматривают места преступления, не снимаются показания, нет
ни сколько-нибудь вразумительного сообщения о происшедшем, ни обращения к
народу, проливающего свет на загадочное происшествие, — словом, дело
всячески заминают. Труп убитого так и не подвергается медицинскому и судебному
освидетельствованию; и поныне неизвестно, был ли Дарнлей задушен, заколот или
(труп был найден в саду с почерневшим лицом) отравлен еще до того, как убийцы
взорвали дом, поистине не пожалев пороху. А чтобы не было лишних разговоров и
чтобы не слишком много людей видело труп, Босуэл самым непристойным образом
торопит с похоронами. Лишь бы скорее упрятать в землю Генри Дарнлея, похоронить
всю эту грязную историю, чтобы не била в нос!
И что
каждому бросается в глаза, каждому показывает, какие высокие лица замешаны в
убийстве, — Генри Дарнлея, короля Шотландии, даже не удосужились
похоронить как подобает. Тело не только не выставляют на катафалке для
торжественного прощания, не только не провозят по городу в пышном погребальном
кортеже, предшествуемом безутешной вдовой, всеми лордами и баронами. Никто не
палит из пушек, никто не звонит в колокола; тайком, в ночи, выносят гроб в
часовню. Без всякой помпы, без почестей, в трусливой спешке тело Генри Дарнлея,
короля Шотландии, опускают в склеп, как будто он был убийцей, а не жертвой
чужой ненависти и неукротимой алчности. А там… отслужили мессу — и по домам!
Пусть бесталанная душа не тревожит больше мира в Шотландии! Quos Deus perdere
vult…
Мария
Стюарт, Босуэл и лорды рады бы гробовой крышкой прихлопнуть всю эту темную аферу.
Но во избежание лишних вопросов, а также дабы Елизавета не вздумала жаловаться,
что ничего не предпринято для раскрытия преступления, решено сделать вид, будто
что-то делается. Спасаясь от настоящего следствия, Босуэл снаряжает следствие
мнимое: этой маленькой уступкой он хочет откупиться от общественного мнения,
пусть думают, что «неведомых убийц» усердно ищут. Правда, всему городу известны
их имена: слишком много понадобилось соучастников, чтобы следить за усадьбой,
закупить всю эту уйму пороху и перетаскать его мешками в дом. Немудрено, что
кого-то и заприметили, да и караульные у городских ворот прекрасно помнят, кого
они ночью вскоре после взрыва впускали в город. Но поскольку коронный совет
Марии Стюарт, в сущности, состоит теперь из одного только Босуэла да Мэйтленда
— из соучастника и укрывателя, — а им довольно поглядеться в зеркало,
чтобы увидеть истинных зачинщиков, то версия о «неведомых злодеях» остается в
силе и даже обнародуется грамота: две тысячи шотландских фунтов обещано тому,
кто назовет имена виновных. Две тысячи шотландских фунтов — заманчивая сумма
для бедняка-горожанина, но каждый понимает, что стоит сказать лишнее слово, и
вместо двух тысяч фунтов заработаешь нож в бок. Босуэл же учреждает нечто вроде
военной диктатуры, и его верные приспешники, the borderers, грозно скачут по
улицам города. Оружие, которым они потрясают, достаточно внушительно, чтобы у
всякого отпала охота молоть языком.
Но когда
правду хотят подавить силой, она отстаивает себя хитростью. Закройте ей рот днем,
и она заговорит ночью. Уже наутро после оглашения грамоты о награде находят на
рыночной площади афишки с именами убийц, а одну такую афишку кто-то даже
умудрился прибить к воротам Холируда, королевского замка. В листках открыто
называются Босуэл и Джеймс Балфур, его пособник, а также слуги королевы —
Бастьен и Джузеппе Риччо; на других афишках стоят и другие имена. Но в каждой
неизменно повторяются все те же два имени: Босуэл и Балфур, Балфур и Босуэл.
Если бы
чувствами Марии Стюарт не владел демон, если бы ее разум и соображение не были
затоплены грозовой страстью, если бы ее воля не была в подчинении, ей, раз уж
голос народа прозвучал так явственно, оставалось одно: отречься от Босуэла. Ей
надо было, сохранись в ее затуманенной душе хоть искра благоразумия, решительно
от него отмежеваться. Надо было прекратить с ним всякое общение, доколе с
помощью искусных маневров его невиновность не будет удостоверена «официально»,
после чего под благовидным предлогом удалить его от двора. И только одного не
следовало ей делать: допускать, чтобы человек, которого чуть ли не вся улица
открыто и про себя называет убийцею короля, ее супруга, чтобы этот человек
заправлял в шотландском королевском доме, и, уж во всяком случае, не следовало
допускать, чтобы тот, кого общественное мнение заклеймило как вожака преступной
шайки, возглавил следствие против «неведомых злодеев». Но что того хуже и
нелепее: на афишках рядом с именами Босуэла и Балфура в качестве их пособников
назывались двое слуг Марии Стюарт — Бастьен и Джузеппе Риччо, братья Давида.
Что же должна была сделать Мария Стюарт в первую голову? Разумеется, предать
суду людей, обвиняемых народной молвой. А вместо этого — и тут недальновидность
граничит с безумием и самообвинением — она тайно отпускает обоих со своей службы,
их снабжают, паспортами и срочно контрабандою переправляют за границу. Словом,
она поступает не так, как диктуют закон и честь, а наоборот: чем выдать суду
заподозренных, содействует их побегу и как укрывательница сама себя сажает на
скамью подсудимых. Но этим не исчерпывается ее самоубийственное безумие!
Достаточно сказать, что ни одна душа в эти дни не видела на ее глазах ни
слезинки; не уединяется она и в свою опочивальню — на сорок дней в одежде
скорби (le deuil blanc), хотя на этот раз у нее во сто крат больше оснований
облечься в траур, а, едва выждав неделю, покидает Холируд и отправляется
гостить в замок лорда Сетона. Даже простую видимость придворного траура не
соблюдает эта вдова, а главное, верх провокации — это ли не вызов, брошенный
всему свету! — в Сетоне она принимает посетителя — и кого же? Да все того
же Джеймса Босуэла, чье изображение с подписью «цареубийца» раздают в эти дни
на улицах Эдинбурга.
Но
Шотландия не весь мир, и если лорды, у которых совесть нечиста, если запуганные
обыватели помалкивают с опаской, делая вид, будто вместе с прахом короля
погребен и всякий интерес к преступлению, то при дворах Лондона, Парижа и
Мадрида не так равнодушно взирают на ужасное убийство. Для Шотландии Дарнлей
был чужак, и, когда он всем опостылел, его обычным способом убрали с дороги;
иначе смотрят на Дарнлея при европейских дворах: для них он король, помазанник
божий, один из их августейшей семьи, одного с ними неприкосновенного сана, а
потому его дело — их кровное дело. Разумеется, никто здесь не верит лживому
сообщению: вся Европа с первой же минуты считает Босуэла зачинщиком убийства, а
Марию Стюарт — его поверенной; даже папа и его легат в гневе обличают
ослепленную женщину. Но не самый факт убийства занимает и волнует иноземных
государей. В тот век не слишком считались с моралью и не так уж щепетильно
оберегали человеческую жизнь. Со времен Макиавелли на политическое убийство в
любом европейском государстве смотрят сквозь пальцы[123], подобные примеры
найдутся чуть ли не у каждой правящей династии. Генрих VIII не стеснялся в
средствах, когда ему нужно было избавиться от своих жен; Филиппу II было бы
крайне неприятно отвечать на вопросы по поводу убийства его собственного сына,
дона Карлоса[124];
семейство Борджиа[125]
не в последнюю очередь обязано своей темной славой знаменитым ядам. Вся разница
в том, что каждый государь, кто бы он ни был, страшится навлечь на себя хотя бы
малейшее подозрение в соучастии: преступления совершают другие, их же руки
остаются чисты. Единственное, чего ждут от Марии Стюарт, — это хотя бы
видимости самооправдания, и что пуще всего досаждает всем — это ее нелепая
безучастность! С удивлением, а затем и с досадою взирают иноземные государи на
свою неразумную, ослепленную сестру, которая и пальцем не шевельнет, чтобы
снять с себя подозрение; чем, как это обычно делается, распорядиться повесить
или четвертовать одного-двух мелких людишек, она забавляется игрой в мяч,
избирая товарищем своих развлечений все того же архипреступника Босуэла. С
искренним волнением докладывает Марии Стюарт ее верный посланник в Париже о
неблагоприятном впечатлении, какое производит ее пассивность: «Здесь на Вас
клевещут, изображая Вас первопричиною преступления; говорят даже, будто оно совершено
по Вашему приказу». И с прямотою, которая на все времена делает ему честь,
отважный служитель церкви заявляет своей королеве, что если она решительно и
бесповоротно не искупит свой грех, «то лучше было бы для Вас лишиться жизни и
всего, чем Вы владеете».
Таковы
ясные слова друга. Когда бы эта потерянная душа сохранила хоть крупицу разума,
хоть искру воли, она воспрянула бы и взяла себя в руки. Еще настоятельнее
звучит соболезнующее письмо Елизаветы. Удивительное стечение обстоятельств: ни
одна женщина, ни один человек на земле не могли бы так понять Марию Стюарт в
этот страшный час, после ужаснейшего свершения всей ее жизни, как та, что
искони была ее злейшей противницей. Елизавета, должно быть, видела себя в этом
деянии, как в зеркале; ведь и она была когда-то в таком положении, и на нее
пало ужасное и, по-видимому, столь же оправданное подозрение в пору самого
пламенного увлечения ее Дадлеем-Лестером. Как здесь — супруг, так там на пути
любовников стояла супруга, которую нужно было устранить, чтобы открыть им
дорогу к венцу; с ведома Елизаветы или нет свершилось ужасное — мир никогда не
узнает, но только однажды утром Эйми Робсарт, жену Роберта Дадлея, нашли убитой
так же, как в случае Дарнлея, «неведомыми убийцами». И тотчас же все взгляды,
обвиняя, обратились на Елизавету, как теперь — на Марию Стюарт; да и сама Мария
Стюарт, в то время еще королева. Французская, легкомысленно иронизировала над
своей кузиной, говоря, что та намерена «выйти за своего шталмейстера (master of
the horses), который к тому и женоубийца». Так же как сейчас в Босуэле, весь
мир видел тогда в Лестере убийцу, а в королеве его пособницу. Воспоминания о
пережитых потрясениях и сделали Елизавету в этом случае лучшей и подлинно
искренней советчицей данной ей роком сестры. Ибо мудро и мужественно поступила,
тогда Елизавета, спасая свою честь: она назначила расследование, безуспешное,
конечно, но все же расследование. А главное, она обрезала крылья молве,
отказавшись от заветного своего желания — брака с Лестером, который так очевидно
для всех запутался. Убийство, таким образом, потеряло всякую связь с ее особой;
и этой же тактики советует Елизавета придерживаться Марии Стюарт.
Письмо
от 24 февраля 1567 года замечательно еще и тем, что это поистине письмо
Елизаветы, письмо женщины, письмо человека. «Madame, — восклицает она в
своем прочувствованном послании, — я так встревожена, подавлена, так
ошеломлена ужасным сообщением о гнусном убийстве Вашего покойного супруга, а
моего безвременно погибшего кузена, что еще не в силах писать об этом; но как
ни побуждают меня мои чувства оплакать смерть столь близкого родича, скажу по
совести: больше, чем о нем, скорблю я о Вас. О Madame, я не выполнила бы долга
Вашей преданной кузины и верного друга, когда бы постаралась сказать Вам нечто
приятное, вместо того чтобы стать на стражу Вашей чести; а потому не стану
таить слухов, какие повсюду о Вас распространяют, будто Вы расследование дела
намерены вести спустя рукава и остерегаетесь взять под стражу тех, кому обязаны
этой услугой, давая повод думать, что убийцы действовали с Вашего согласия.
Поверьте, ни за какие богатства мира не вскормила бы я в своем сердце мысли
столь чудовищной. Никогда бы я не приютила в нем гостя столь зловещего, никогда
бы не решилась так дурно помыслить о государыне, особливо же о той, которой
желаю всего наилучшего, что только может подсказать мне сердце или чего сами Вы
себе желаете. А потому призываю Вас, заклинаю и молю: послушайтесь моего
совета, не бойтесь задеть и того, кто Вам всех ближе, раз он виновен, и пусть
никакие уговоры не воспрепятствуют Вам показать всему миру, что Вы такая же благородная
государыня, как и добропорядочная женщина».
Более
честного и человечного письма эта лицемерка, пожалуй, никогда не писала;
выстрелом из пистолета должно было оно прозвучать в ушах оглушенной женщины и
наконец пробудить ее к действительности. Снова ей перстом указуют на Босуэла,
снова неопровержимо убеждают, что малейшее снисхождение обличит ее самое как
соучастницу. Но состояние Марии Стюарт в эти недели — приходится еще и еще раз
подчеркнуть это — состояние полной порабощенности. Она так «shamefully
enamoured», постыдно влюблена в Босуэла, что, как доносит в Лондоне один из
соглядатаев Елизаветы, «по ее же словам, готова все бросить и в одной сорочке
последовать за ним на край света». Она глуха к увещаниям, ее разум уже не волен
над бурлением крови. И поскольку сама она себя забывает, ей кажется, что и мир
забудет ее и ее деяние.
Некоторое
время — весь март месяц — пассивность Марии Стюарт как будто бы себя оправдывает.
Вся Шотландия молчит, ее вершители суда как бы ослепли и оглохли, а Босуэл — поистине
беспримерный случай — при всем желании бессилен найти «неведомых злодеев», хотя
в каждом доме и на каждом перекрестке горожане шепотом сообщают друг другу их
имена. Все знают и называют их, и никто не рискует ценою собственной жизни
добиваться обещанной награды. Но вот раздается голос. Отцу убитого, графу
Леноксу, одному из влиятельнейших вельмож в стране, нельзя же отказать в
ответе, когда он справедливо ропщет, что по истечении стольких дней никаких
серьезных мер не принято для поимки и наказания убийц его сына. Мария Стюарт,
которая делит ложе с убийцей и чьей рукой водит укрыватель Мэйтленд, отвечает,
разумеется, уклончиво; она, конечно, сделает все от нее зависящее и поручит
расследование парламенту. Но Ленокс прекрасно знает цену такому ответу и
повторяет свое требование. Пусть для начала, заявляет он, арестуют тех, чьи
имена были названы в афишках, расклеенных по всему Эдинбургу. На требование,
так ясно сформулированное, ответить уже труднее. Мария Стюарт снова увиливает;
она охотно бы так и сделала, но в афишках указывались столь многие и столь
различные имена, никак друг с другом не связанные, — пусть Ленокс сам
скажет, на кого он держит подозрение. Очевидно, она надеется, что из страха
перед всемогущим диктатором, учредившим в стране террор, Ленокс не решится
произнести опасное имя Босуэла. Но Ленокс тем временем заручился поддержкой и
укрепился духом: он снесся с Елизаветой и поставил себя под ее защиту. Ясно и
недвусмысленно, недрогнувшей рукой выписывает он, к всеобщему замешательству,
имена всех тех, против кого требует учредить следствие. Первым в списке стоит
Босуэл, за ним Балфур, Дэйвид Чармерс и кое-кто помельче из людей Марии Стюарт
и Босуэла — господа давно постарались сплавить их за границу, чтобы они на дыбе
не сболтнули лишнего. И тут обескураженной Марии Стюарт наконец становится
ясно, что играть комедию, вести следствие «спустя рукава» ей больше не удастся.
За упорством Ленокса он угадывает Елизавету со всей присущей ей энергией и
авторитетом. Тем временем и Екатерина Медичи в весьма резком тоне уведомляет
Марию Стюарт, что отныне считает ее обесчещенной (dishonoured) и что Шотландии
нечего рассчитывать на дружбу Франции, доколе убийство не будет искуплено
добросовестным и беспристрастным судебным следствием. Единственное, что остается
Марии Стюарт, — это круто повернуть и заменить комедию «тщетных» розысков
другой комедией — гласного судопроизводства. Она вынуждена дать согласие на то,
чтобы Джеймс Босуэл — мелкими людишками можно будет заняться позднее — предстал
перед судом дворян. 28 марта граф Ленокс получает официальное приглашение в
Эдинбург с тем, чтобы 12 апреля он предъявил Босуэлу свои обвинения.
Однако
Босуэл не из тех, кто в покаянной одежде, смиренно и робко спешит предстать
перед судьями. И если он не отказывается явиться на вызов, то лишь потому, что
намерен всеми средствами добиваться не осуждения, а оправдательного приговора —
cleansing. Энергично берется он за приготовления. В первую очередь он побуждает
королеву передать под его команду все крепости страны. Все наличное оружие и
боевые припасы теперь в его непосредственном ведении. Он знает: сильный всегда
прав; к тому же он созвал в Эдинбург всю банду своих borderers и снарядил их
словно для битвы. Не ведая стыда и сраму, с присущей ему бесцеремонностью и
цинизмом этот повадливый на все дурное человек устанавливает в Эдинбурге самый
настоящий режим террора. «Дайте мне только дознаться, — заявляет он во
всеуслышание, — чьи людишки разбросали по городу подметные грамоты, и я
омою руки в их крови», — серьезнейшее предупреждение Леноксу. Он так и
ходит, держа руку на кинжале, и точно так же, угрожая кинжалами, шатаются по
городу его люди, недвусмысленно заявляя, что они не позволят, чтобы
предводителя их клана, словно преступника, таскали по судам. Пусть только
Ленокс посмеет сунуться сюда и оговорить его! Пусть только судьи попробуют
осудить его, диктатора Шотландии!
Эти
приготовления так афишируются, что у Ленокса не остается сомнений насчет того,
что его ждет. Никто не возбраняет ему приехать в Эдинбург и предъявить Босуэлу
свои обвинения, но уж после этого Босуэл не выпустит его из города живым. И
снова обращается он к своей заступнице Елизавете, и та без колебаний шлет Марии
Стюарт весьма энергичное письмо, предупреждая ее, пока не поздно, не мирволить
столь явному беззаконию, дабы не навлечь на себя подозрения в соучастии.
«Madame,
я не позволила б себе беспокоить Вас этим письмом, — пишет она в крайнем
раздражении, — когда б меня не приневолила к тому заповедь, предписывающая
нам возлюбить ближнего, не приневолили слезные просьбы несчастных. Мне
известно, Madame, Ваше распоряжение, коим разбирательство по делу лиц,
подозреваемые в убийстве Вашего супруга, а моего почившего кузена, назначено на
12-е сего месяца. Чрезвычайно важно, чтобы событию этому не помешали тайные
козни и коварные происки, что вполне возможно. Отец и друзья покойного смиренно
молят меня воззвать к Вам, чтобы Вы отложили судебное разбирательство, так как
известно стало, что некие бессовестные люди стараются силою добиться того, чего
им не удается достичь честным путем. Поэтому я и вынуждена вмешаться, как из
любви к Вам, которой это касается ближе всего, так и для успокоения тех, кто
неповинен в столь неслыханных злодеяниях, ибо даже если б Вы не ведали за собой
вины, одного такого попустительства было бы достаточно, чтобы Вас лишили
королевского сана и отдали на поругание черни. Но чем быть подвергнутой такому
бесчестию, я бы пожелала Вам честно умереть».
Такой
повторный выстрел в упор по нечистой совести должен был бы пробудить к жизни
даже онемевшие, окаменелые чувства. Но нет никакой уверенности в том, что это
предостережение, сделанное буквально в последнюю минуту, было своевременно
получено Марией Стюарт. Ведь Босуэл начеку, этому сумасбродно смелому,
неукротимому малому не страшен ни бог, ни черт, а уж на английскую королеву ему
и вовсе наплевать. Чрезвычайного посланца Елизаветы, прибывшего с ее письмом,
задерживают у ворот клевреты Босуэла и не пропускают во дворец: королева-де
почивает и не может его принять. В полном недоумении бродит гонец, привезший
одной королеве письмо от другой, по улицам города, не зная как быть. Наконец он
попадает к Босуэлу и вручает ему письмо, и временщик тут же нагло вскрывает
его, прочитывает на глазах у посланца и равнодушно сует в карман. Передал ли он
письмо Марии Стюарт, неизвестно, а, впрочем, это и неважно. Порабощенная
женщина давно уже ни в чем не перечит своему господину. Она даже, как потом
говорили, позволила себе помахать Босуэлу из окна, когда тот в сопровождении
своих конных головорезов отправился в Толбут, словно хотела пожелать заведомому
убийце успеха в предстоящей комедии правосудия.
Но если
даже Марию Стюарт миновало последнее предостережение Елизаветы, то отсюда не
следует, что никто другой ее не остерег. За три дня до суда к ней наведался ее
сводный брат Меррей; уезжая в длительное путешествие, он пришел проститься. У
Меррея явилось внезапное желание проехаться во Францию и Италию, «to see Venice
and Milan»[126].
Мария Стюарт должна бы знать по неоднократному опыту, что столь поспешное
исчезновение Меррея с политической арены предвещает перемену погоды, что он
хочет своим демонстративным отсутствием заранее опротестовать позорную пародию
на суд. Впрочем, Меррей и не скрывает истинной причины своего отъезда. Он рассказывает
направо и налево, что пытался задержать Джеймса Балфура как одного из главных
участников убийства, но ему помешал Босуэл, всячески выгораживающий своих
сообщников. А неделю спустя он открыто заявит в Лондоне испанскому послу де
Сильва, что «считал оскорбительным для своей чести дальнейшее пребывание в
стране, где подобные чудовищные злодеяния остаются безнаказанными». Кто говорит
об этом так широко, тот, верно, не станет таиться от сестры. И действительно,
когда Мария Стюарт прощалась с братом, многие видели на ее глазах слезы. Однако
она не находит в себе сил удержать Меррея. Она больше ни на что не находит в
себе сил, с тех пор как телом и душой предалась Босуэлу. Она может только плыть
по течению, безвольная игрушка в его руках, ибо королева в ней отдалась во
власть пылающей и покоренной женщины.
Наглым
вызовом начинается двенадцатого апреля судебная комедия, и таким же наглым вызовом
кончается она. Босуэл отправляется в Толбут, в здание суда, словно в атаку — с
мечом на боку, с кинжалом за поясом, окруженный своими присными — около четырех
тысяч числом, по явно преувеличенному, впрочем, подсчету; Леноксу же на
основании указа, давно уже сданного в архив, разрешено взять с собой при въезде
в город не более шести провожатых. Уже в этом сказалась пристрастность
королевы. Однако явиться в суд и сразу же наткнуться на ощетинившиеся клинки
Ленокс не решается; зная, что Елизавета послала Марии Стюарт письмо с
требованием отложить процесс, и чувствуя за собой такую опору, он
ограничивается тем, что посылает в Толбут одного из своих ленников для зачтения
протеста. Отчасти запуганные, отчасти подкупленные землями, золотом и
почестями, судьи с великим облегчением усматривают в неявке жалобщика удобный
повод избавиться от неудобного судоговорения. После якобы обстоятельного
совещания (на самом деле все предрешено заранее) Босуэлу единодушно выносится
оправдательный приговор — он-де непричастен «in any art and part of the said
slauchter of the King»[127]
— с постыдной, впрочем, ссылкою на «отсутствие обвинения». И этот шаткий
приговор, которым ни один честный человек не удовлетворился бы, Босуэл
превращает в свой триумф. Бряцая оружием, то и дело выхватывая меч из ножен и
потрясая им в воздухе, разъезжает он по городу, громко вызывая на единоборство
всякого, кто и теперь осмелится бросить ему обвинение в убийстве короля или
хотя бы в пособничестве убийству.
И вот
уже колесо с головокружительной быстротой мчится под уклон — в бездну.
Смущенные обыватели потихоньку ропщут и сетуют на беспримерное попрание
правосудия, а друзья Марии Стюарт только переглядываются с сокрушением (with
sore hearts) и бессильно разводят руками. Эту безумную и остеречь нельзя.
«Больно было видеть, — пишет лучший ее друг Мелвил, — как эта добрая
государыня очертя голову несется навстречу гибели, и никто не может ни остеречь
ее от опасности, ни удержать». Нет, Мария Стюарт никого не хочет слушать, ей не
нужны никакие предостережения; охваченная темным соблазном, подмывающим на
любое безрассудство, стремится она все вперед и вперед; не оглядываясь, не
спрашивая, не слушая, мчится все дальше и дальше на свою погибель эта одержимая
страстью менада. Вскоре после того достопамятного дня, когда Босуэл бросил
вызов городу, она наносит оскорбление всей стране, предоставив этому
закоренелому злодею высшую почесть, какою располагает Шотландия, —
совершая свой торжественный выход в день открытия парламентской сессии, она
поручает Босуэлу нести впереди нее национальные святыни — корону и скипетр.
Теперь уже никто не сомневается, что тот самый Босуэл, который сегодня держит
корону в своих руках, завтра возложит ее себе на голову. И в самом деле, Босуэл
— и это каждый раз особенно восхищает нас в неукротимом кондотьере — не из тех,
кто долго таится. Нагло, напористо и открыто добивается он заветной награды.
Презрев стыд и совесть, заставляет он парламент «за выдающиеся заслуги», «for
his great and manifold gud service», преподнести ему самый укрепленный замок
страны — Данбар, и, благо лорды собрались все вместе и послушны его воле, он,
взяв их за горло, вырывает у них и последнее: согласие на его брак с Марией
Стюарт. Вечером, по окончании парламентских занятий, Босуэл, как великий
вельможа и военный диктатор, приглашает всю братию отужинать в таверне Эйнслея.
После дружных возлияний, когда большинство перепилось — вспоминается знаменитая
сцена из «Валленштейна»[128], —
он предлагает лордам подписать «бонд», по которому те обязуются не только
защищать Босуэла от любого клеветника, но также рекомендовать оного
благородного могущественного лорда — «noble puissant lord», в супруги королеве.
Поскольку Босуэл признан невиновным всеми пэрами страны, а рука ее величества
свободна, говорится в пресловутой грамоте, то ей, «ревнуя к общему благу,
следовало бы снизойти до брака с одним из ее подданных, а именно с названным
лордом». Они же «как перед богом клянутся» поддержать указанного лорда и
защитить его против всех, кто захочет помешать или воспрепятствовать этому
браку, не щадя для этого ни крови своей, ни достояния.
Один-единственный
из присутствующих пользуется наступившим после чтения замешательством, чтобы незаметно
покинуть таверну; другие, потому ли, что дом окружен вооруженными приспешниками
Босуэла, или потому, что про себя они решили при первом же удобном случае отступиться
от подневольной присяги, подмахнули грамоту. Они знают: что написано пером,
прекрасно смывается кровью. А потому никто особенно не задумывается: что значит
для этой братии какой-то росчерк пера! Все подписываются и продолжают пировать
и бражничать, а пуще всех веселится Босуэл. Наконец-то желанный приз у него в
руках и он у цели. Еще несколько недель — и то, что кажется нам в «Гамлете»
небывальщиной, поэтической гиперболой, становится здесь действительностью:
королева, «еще и башмаков не износив, в которых прах сопровождала мужа»[129],
идет к алтарю с его убийцей. Quos Deus perdere vult…
|


