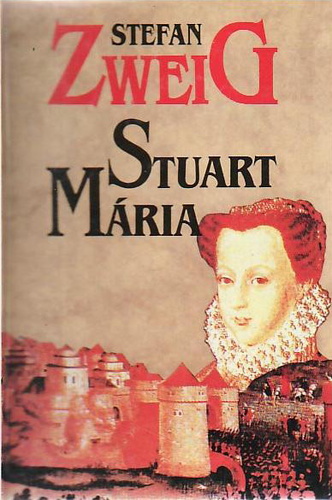
 Увеличить Увеличить |
14. Путь безысходный
(апрель — июнь 1567)
Невольно,
по мере того как трагедия «Босуэл», нарастая, стремится к своей высшей точке,
нам, словно по какому-то внутреннему принуждению, все снова и снова
вспоминается Шекспир. Уже внешнее сюжетное сходство этой трагедии с «Гамлетом»
неоспоримо. И тут и там — король, вероломно убранный с дороги любовником жены,
и тут и там — вдова, с бесстыдной поспешностью устремляющаяся к венцу с убийцею
мужа, и тут и там — неугасающее действие сил, рожденных убийством, которое труднее
скрыть и от которого труднее скрыться, чем было совершить его. Уже одно это
сходство поражает. Однако еще сильнее, еще неодолимее воздействует на чувство
поразительная аналогия многих сцен шекспировской шотландской трагедии с
исторической. Шекспировский «Макбет», сознательно или бессознательно, сотворен
из атмосферы драмы «Мария Стюарт»; то, что волею поэта произошло в Дунсинанском
замке, на самом деле не так давно происходило в Холируде. И тут и там то же
одиночество после содеянного, тот же тяжкий душевный мрак, те же овеянные жутью
пиршества, на которых гости не смеют отдаться веселью и откуда они втихомолку
бегут один за другим, между тем как черные вороны несчастья, зловеще каркая,
кружат над домом. Порой не скажешь: Мария ли Стюарт ночами блуждает по дому в
помрачении разума, не ведая сна, смертельно терзаемая совестью, или же то леди
Макбет, пытающаяся смыть невидимые пятна с обагренных кровью рук? То ли Босуэл
перед нами, то ли Макбет, все решительнее и непримиримее, все дерзновеннее и
отважнее противостоящий ненависти всей страны и в то же время знающий, что все
его мужество бесплодно и что смертному не одолеть бессмертных духов. И здесь и
там — страсть женщины как движущее начало и мужчина как исполнитель, но
особенно здесь и там схожа атмосфера, гнетущая тяжесть, нависшая над
заблудшими, замученными душами, мужчиной и женщиной, что прикованы друг к другу
одним и тем же преступлением и увлекают один другого в пагубную бездну. Никогда
в мировой истории и мировой литературе психология преступления и таинственно
тяготеющая над убийцей власть убиенного не проявлялись так блистательно, как в
обеих шотландских трагедиях, из коих одна была сочинена, а другая реально
пережита.
Это
сходство, эта поразительная аналогия только ли случайны? Или же должно признать,
что в шекспировском творении реально пережитая трагедия Марии Стюарт нашла свое
поэтическое и философское истолкование? Впечатления детства неугасимо властвуют
над душой поэта[130],
и таинственно преображает гений ранние впечатления в вечную, непреходящую
действительность. Одно несомненно: Шекспиру были известны события, происшедшие
в Холирудском замке. Все его детство в английском захолустье было овеяно
рассказами и легендами о романтической королеве, которой безрассудная страсть
стоила страны и престола, и теперь, в наказание, ее постоянно перевозят из одного
английского замка в другой. Он, верно, совсем недавно прибыл в Лондон, этот
юноша — лишь наполовину мужчина, но уже вполне поэт, — когда по всему
городу трезвонили колокола, ликуя оттого, что великая противница Елизаветы
наконец-то сложила голову на плахе и что Дарнлей увлек за собой в могилу
неверную жену. Когда же впоследствии в Холиншедовой хронике[131] он натолкнулся на
повесть о сумрачном короле Шотландском[132],
быть может, вспыхнувшее воспоминание о трагической гибели Марии Стюарт
таинственным образом связало обе эти темы в творческой лаборатории поэта? Никто
не может утверждать с уверенностью, но никто не может и отрицать, что трагедия
Шекспира была обусловлена той реально пережитой трагедией. Но лишь тот, кто
прочитал и прочувствовал «Макбета», сможет полностью понять Марию Стюарт тех
холирудских дней, невыразимые муки сильной души, которой самое дерзновенное ее
деяние оказалось не под силу.
Но что
особенно поражает нас в обеих трагедиях, как вымышленной, так и реально
пережитой, это полная аналогия в том, как меняются под влиянием содеянного обе
героини — Мария Стюарт и леди Макбет. Леди Макбет вначале — преданная, пылкая,
энергичная натура, с сильной волей и пламенным честолюбий, ем. Она грезит о величии
своего супруга, и эта строка из памятного сонета Марии Стюарт могла быть
написана ее рукой: «Pour luy je veux rechercher la grandeur…»
Основной
стимул преступления — в ее честолюбии, и она действует хитро и решительно, пока
дело — лишь тень ее желания, лишь замысел и план, пока алая горячая кровь не
обагрила ей руки, не запятнала душу. Льстивыми речами, как и Мария Стюарт,
завлекшая Дарнлея в Керк о’Филд, зазывает она Дункана в опочивальню, где его
ждет отточенный клинок. Но сразу же после содеянного она уже другая, ее силы
исчерпаны, мужество сломлено. Огнем сжигает совесть ее живую плоть, с остановившимся
взором, безумная, бродит она по замку, внушая друзьям ужас, а себе —
отвращение. Неутолимая жажда разъедает ее измученный мозг — жажда все забыть,
ни о чем не думать, ничего не знать, жажда небытия. Но такова же и Мария Стюарт
после убийства Дарнлея. С ней происходит перемена, внезапное превращение, даже
черты ее лица так несхожи с прежними, что Друри, соглядатай Елизаветы, доносит
в Лондон: «Никогда еще не было видно, чтобы за такой короткий срок и не будучи
больной женщина так изменилась внешне, как изменилась королева». Ничто больше
не напоминает в ней ту жизнерадостную, разумную, общительную, уверенную в себе
женщину, какой все знали ее лишь за несколько недель. Она уединяется, прячется,
замыкается в себе. Быть может, подобно Макбету и леди Макбет, она все еще
надеется, что мир промолчит, если молчать будет она, и что черная волна
милосердно пронесется над ее головой. Но по мере того, как все настойчивее звучат
голоса и требуют ответа; по мере того, как ночами на улицах Эдинбурга, под
самыми ее окнами, все громче выкликают имена убийц; по мере того, как Ленокс,
отец убитого, ее недруг Елизавета, ее друг Битон, как весь мир восстает против
нее, требуя суда и справедливости, — рассудок ее мутится. Она знает: нужно
что-то сделать, чтоб скрыть содеянное, оправдаться. Но не находит сил для убедительного
ответа, не находит умного Обманного слова. Точно в глубоком гипнотическом сне,
Слышит она голоса из Лондона, Парижа, Мадрида, Рима, они обращаются к ней,
увещают, остерегают, но Она не в силах воспрянуть, она слышит эти зовы, лишь
рак заживо погребенный слышит шаги идущих по земле, — бессильно,
беспомощно, из глубины отчаяния. Она знает: надо разыграть безутешную вдову,
отчаявшуюся супругу, надо исступленно рыдать и вопить, чтобы мир поверил ее
невиновности. Но в горле у нее пересохло, она не в силах заговорить, не в силах
больше притворяться. Неделя тянется за неделей, и наконец она чувствует: больше
ей этого не вынести. Подобно тому, как загнанная лань с мужеством отчаяния
поворачивается и бросается на преследователей, подобно тому, как Макбет,
стремясь защитить себя, громоздит все новые убийства на убийства, взывающие о
мщении, так и Мария Стюарт вырывается наконец из сковавшего ее оцепенения. Ей
уже все равно, что подумает мир, все равно — разумно или безрассудно она
поступает. Лишь бы не эта онемелость, лишь бы что-то делать, двигаться все
вперед и вперед, все быстрей и быстрей, бежать от этих голосов, убеждающих и
угрожающих. Лишь бы вперед и вперед, не задерживаться на месте и не думать, а
то как бы не пришлось сознаться себе самой, что никакая мудрость ее уже не
спасет. Одна из тайн нашей, души заключена в том, что на короткий срок быстрое
движение заглушает в нас страх; словно возница, который, слыша, что мост под
ним гнется и трещит, все шибче нахлестывает лошадей, ибо знает, что лишь
сумасшедшая езда может его спасти, так и Мария Стюарт во всю мочь гонит
вороного коня своей судьбы, чтобы задавить последние сомнения, растоптать любое
прекословие. Только бы не думать, только бы не знать, не видеть — все дальше и
дальше в дебри безумия! Лучше страшный конец, чем бесконечный страх! Таков
непреложный закон: как камень падает тем быстрее, чем глубже скатывается в
бездну, так и заблудшая душа без памяти торопится вперед, зная, что кругом безысходность.
Ни один
из поступков Марии Стюарт в недели, следующие за убийством, не поддается объяснению
доводами разума, а единственно лишь душевным затмением на почве безмерного
страха. Даже в своем неистовстве не могла она не понимать, что честь ее навеки
загублена и утрачена, что вся Шотландия, вся Европа увидит в браке, заключенном
спустя лишь несколько недель после убийства, да еще с убийцею ее супруга,
надругательство над законом и добрыми нравами. Достаточно было бы любовникам
затаиться и выждать год-другой, и все эти обстоятельства, возможно, позабылись
бы. При искусной дипломатической подготовке можно было бы тысячу объяснений
придумать, почему именно Босуэла избрала она в супруги. И только одно неизбежно
грозило столкнуть Марию Стюарт в бездну гибели — решись она кощунственно
нарушить траур и бросить вызов всему миру, с преступной торопливостью возложив
корону убитого на голову убийцы. Но именно к этому стремится Мария Стюарт в
своем постыдном нетерпении.
Для
столь необъяснимого поведения обычно разумной и тактичной женщины существует
одно лишь объяснение: у Марии Стюарт нет выхода. По-видимому, ей нельзя ждать,
что-то мешает ей ждать, так как всякое ожидание, всякая проволочка грозит
разоблачить перед миром то, чего ни одна душа еще не подозревает. И нет иного
объяснения для такого безоглядного бегства в брак с Босуэлом, как то —
последующие события подтвердят эту догадку, — что несчастная уже знала о
своей беременности. Но ведь не сына Генри Дарнлея, не королевского отпрыска
носит она под сердцем, а плод запретной преступной любви. Однако королеве
Шотландской не подобает произвести на свет внебрачного младенца, да еще при
обстоятельствах, что огненными письменами вещают на всех стенах о ее вине или
соучастии. Ибо с непреложной ясностью вышло бы наружу, каким забавам предавалась
она со своим возлюбленным в дни траура; ведь каждый может сосчитать, вступила
ли Мария Стюарт — и то и другое одинаково зазорно! — в предосудительную
связь с Босуэлом до убийства Дарнлея или сразу же после него. Только
поторопившись узаконить рождение ребенка, может она спасти его честь, а отчасти
и собственную. Ведь если его появление на свет застанет ее супругой Босуэла,
слишком ранние роды не так бросятся в глаза, да и рядом будет человек, который
даст ребенку свое имя и отстоит его права. А потому каждый месяц, каждая неделя
проволочки — непоправимо упущенное время. Быть может, ей кажется — ужасная
альтернатива! — что чудовищное решение взять в мужья убийцу своего мужа
все же менее позорно, чем родить внебрачного ребенка и этим открыто признать
свой грех. Только допустив как некую вероятность такое неумолимое вмешательство
природы, ее элементарных законов, можно как-то понять противоестественное
поведение Марии Стюарт в течение этих недель — все прочие домыслы искусственны
и лишь затемняют картину ее душевного состояния. Только приняв в соображение
этот страх — страх, который миллионы женщин всех времен узнали на собственном
опыте, который и самых честных и смелых не раз приводил к превратным и
преступным решениям, — мучительный страх перед тем, как бы непрошеная
беременность не раскрыла тайны, — можно уяснить себе, что заставляло
потрясенную женщину так торопиться. Только это, единственно это соображение
придает какой-то смысл бессмысленной спешке, одновременно открывая взгляду всю
глубину трагедии этой несчастной.
Страшная,
убийственная ситуация, сам дьявол не выдумал бы более ужасной. Время не ждет,
время, поскольку королева знает, что беременна, вынуждает ее торопиться, а с
другой стороны, именно торопливость навлекает на нее подозрение. Как королева
Шотландии, как вдова, как женщина, дорожащая своей честью и доброй славой и
знающая, что вся страна, весь европейский мир глаз с нее не сводят, Мария
Стюарт и думать не должна о супруге с такой сомнительной, ужасной репутацией,
как у Босуэла. Но беспомощная женщина, попавшая в безвыходное положение, она в
нем одном видит спасителя. Она и не должна выходить за него замуж и должна
непременно. А чтобы мир не угадал истинной причины ее поступка, надо было
изобрести другую, от нее не зависящую причину в объяснение этой безумной
горячки. Надо было изобрести такой предлог, который сообщил бы смысл
немыслимому с точки зрения морали и закона поступку, — предлог, который бы
сделал брак Марии Стюарт печальной необходимостью.
Однако
что может заставить королеву заключить столь неравный брак, снизойти до
человека столь скромного ранга? Кодекс чести того времени лишь в одном случае
допускал такую уступку: если женщина насильственно обесчещена, виновник обязан
был женитьбою восстановить ее честь. Только как оскорбленная женщина могла бы
Мария Стюарт, с некоторым правом отважиться на этот союз, только тогда можно
было бы внушить народу, что она подчинилась неизбежности.
Единственно
лишь безысходное отчаяние могло породить такой фантастический план. Только
полнейший сумбур в голове мог привести к такому сумбурному решению. Даже Мария
Стюарт, столь отважная и решительная в критические минуты, отступает в ужасе,
когда Босуэл предлагает ей разыграть этот трагический фарс. «Лучше мне умереть,
я чувствую, все кончится ужасно», — пишет эта мученица. Но что бы ни
говорили о Босуэле моралисты, он верен себе в своей великолепной отваге
отчаянного сорвиголовы. То, что ему предстоит разыграть перед всей Европой роль
отпетого негодяя, насильника, посягнувшего на честь своей королевы, разбойника
с большой дороги, цинично презирающего добропорядочность и закон, нимало его не
смущает. Да хоть бы перед ним распахнулись врата ада, не такой он человек,
чтобы остановиться на полдороге, когда на карту поставлена корона! Нет
опасности, перед которой он отступил бы, — невольно вспомнишь Моцартова
Дон Жуана, его дерзновенную выходку, когда он приглашает каменного командора
откушать с ним. Рядом с Босуэлом трясется Лепорелло — его шурин Хантлей,
согласившийся за взятку в виде кое-каких церковных владений благословить развод
Босуэла со своей сестрой. При мысли о столь рискованной комедии душа у
трусоватого рыцаря уходит в пятки, и он бросается к королеве, пытаясь ее отговорить.
Но Босуэла не тревожит отпадение еще одного союзника, после того как он бросил
вызов всему миру; не пугает его и то, что план увоза, по-видимому, кем-то выдан
— соглядатай Елизаветы доносит о нем в Лондон накануне назначенного срока; ему
безразлично, будет похищение принято за чистую монету или нет, лишь бы оно
привело его к цели — стать королем. Он делает все, что ни вздумает, не боится
ничего на свете, и у него еще хватает силы увлечь за собой свою противящуюся
жертву.
Ибо, как
опять-таки показывают письма из ларца, судорожно восстает какое-то внутреннее чутье
Марии Стюарт против железной воли ее господина. Явственно говорит ей
предчувствие, что напрасен и этот новый обман, что им не удастся никого
обмануть, кроме самих себя. Но, послушная раба, она и на этот раз безропотно
подчиняется Босуэлу. Так же покорно, как недавно она помогала ему увезти
Дарнлея из Глазго, так и теперь с тяжелым сердцем помогает она «увезти» самое
себя, и вся комедия согласованного «похищения» разыгрывается как по нотам.
Двадцать
первого апреля, спустя несколько дней после вынужденного оправдания Босуэла на
суде дворян и «награждения» его парламентом, — двадцать первого апреля,
еще и двух суток не прошло, как Босуэл в харчевне Эйнслея выманил у лордов
согласие на свой брак с королевой, и ровно девять лет минуло, как она
полуребенком была обвенчана с французским дофином, — Мария Стюарт, доселе
не слишком заботливая мамаша, вдруг изъявляет горячее желание проведать своего
сыночка в замке Стирлинг. Недоверчиво встречает ее граф Мар, официальный опекун
наследника, — до него, видимо, дошли темные слухи. Только в присутствии
других женщин дозволено Марии Стюарт встретиться с сыном — верно, лорды
страшатся, как бы она не завладела младенцем и не выдала его Босуэлу: всем уже
ясно, что эта женщина готова выполнить любое, хотя бы и преступное, приказание
своего тирана. В сопровождении нескольких всадников, в том числе Мэйтленда и
Хантлея, конечно, во все посвященных, возвращается королева в Эдинбург. Но в
шести милях от города из засады выскакивает большой конный отряд во главе с
Босуэлом и «нападает» на королевский кортеж. Дело, разумеется, обходится миром:
«во избежание кровопролития» Мария Стюарт запрещает своим спутникам оказать
сопротивление. Достаточно Босуэлу схватить за повод ее коня, как королева добровольно
«сдается в плен» — позволяет увезти себя в сладостное заточение в замке Данбар.
Какому-то переусердствовавшему капитану, который, собрав подмогу, разлетелся
было освободить ее, дают понять, что в его услугах не нуждаются, а взятых в
плен Мэйтленда и Хантлея наилюбезнейшим образом отпускают по домам. Никто не
пострадал, все с миром отправляются восвояси, и только королева остается в
плену у возлюбленного «насильника». Больше недели «жертва» делит ложе похитителя,
а между тем в Эдинбурге с величайшей поспешностью и не щадя затрат обстряпывают
дело о разводе Босуэла с его законной супругой — сначала в протестантском суде
под весьма шатким предлогом, будто Босуэл нарушил супружескую верность,
согрешив со служанкою, а затем и в католическом — судьи с запозданием
спохватились, что Босуэл состоит со своей женой Джейн Гордон в каком-то
отдаленном родстве. Но вот благополучно завершена и эта темная сделка. Пришло
время объявить миру, что Босуэл, как дерзкий разбойник с большой дороги, напал
на бедную королеву и в своей необузданной похоти надругался над ней, и теперь
только брак с человеком, овладевшим ею против воли, может восстановить
поруганную честь королевы Шотландской.
Однако
«похищение» сработано чересчур уж топорно: никто всерьез не верит, что над
королевой Шотландской «учинено насилие», и даже испанский посланник, наиболее
из всех благожелательный, доносит в Мадрид, что все это чистейшая уловка.
Но как
ни странно, именно те, кому обман особенно ясен, притворяются, будто они
убеждены в факте насилия. Лорды, тем временем подписавшие новый «бонд» на
предмет полного свержения Босуэла, отваживаются почти на остроумную каверзу:
они принимают версию о похищении королевы со всей подобающей серьезностью.
Внезапно преисполнясь трогательной верности, они заявляют с великим
возмущением, что государыня их страны «насильственно содержится в заточении,
сие же есть величайшее надругательство над честью Шотландии». С необычным
единомыслием договариваются они вырвать беззащитную овечку из пасти злого волка
Босуэла. Наконец-то они обрели желанный повод напасть на грозного диктатора
из-за угла под флагом ультрапатриотизма. Наспех сговариваются они «избавить»
Марию Стюарт от Босуэла и этим помешать свадьбе, которую сами еще неделю назад
поощряли.
Разумеется,
для Марии Стюарт не может быть худшей услуги, чем это внезапное и назойливое
попечение лордов, вознамерившихся вырвать ее из когтей «насильника». Тем самым
у нее выбиты из рук карты, которые она смешала с таким хитрым расчетом. И так
как она отнюдь не хочет быть «избавленной» от Босуэла, а, наоборот, хочет навек
с ним соединиться, то ей приходится по возможности свести на нет выдумку, будто
он ее обесчестил. Если еще вчера она усиленно чернила Босуэла, то сегодня не
знает, как его обелить. Весь фарс теряет, таким образом, всякий смысл. Чтобы
уберечь своего обольстителя от суда и расправы, она выгораживает его со всеми
увертками заправского адвоката. «Поначалу с ней, правда, обошлись несколько
странно, зато уж потом — как нельзя лучше, и у нее нет оснований жаловаться». А
так как не было рядом никого, кто бы мог прийти ей на помощь, то она «была
вынуждена умерить свое первоначальное неудовольствие и здраво поразмыслить над
сделанным предложением». Все постыднее становится положение женщины,
запутавшейся в дебрях страсти. Последняя прикрывавшая ее пелена стыдливости
разодрана в клочья, и, вырвавшись из чащи, стоит она обнаженная перед насмешкою
всего мира.
Глубокое
замешательство охватывает друзей Марии Стюарт, когда в первых числах мая они
встречают свою высокочтимую королеву при ее возвращении в Эдинбург: Босуэл
ведет коня под уздцы, а его солдаты в знак того, что она следует за ним по
доброй воле, бросают свои копья наземь. Напрасно пытаются истинные
доброжелатели Марии Стюарт и Шотландии предостеречь ослепленную. Французский
посланник Дю Крок заявляет ей, что брак с Босуэлом — это конец дружбы с
Францией; один из ее верных, лорд Херрис, бросается к ее ногам, а испытанному
Мелвилу, который еще в последнюю минуту старается помешать этому браку,
приходится бежать от гнева Босуэла. С сокрушенным Сердцем взирают они на то,
как эта отважная, независимая женщина отдается на волю оголтелого авантюриста,
и с тревогой предвидят, что в сумасбродном нетерпении соединиться с убийцей
своего мужа она неминуемо утратит престол и честь. Зато враги ее торжествуют.
Сбылись во всем своем страшном значении мрачные пророчества Джона Нокса. Его
преемник Джон Крэг отказывается вывесить в храме греховное оглашение; не
обинуясь, называет он этот брак «odious and slanderous before the world»[133] и
только тогда вступает в переговоры, когда Босуэл грозится отправить его на
виселицу. Марии Стюарт приходится все ниже и ниже клонить голову. Теперь, когда
все знают, как она спешит со свадьбой, каждый бесстыдный вымогатель старается
сорвать с нее побольше. Хантлей за хлопоты о разводе Босуэла получает
доставшиеся короне церковные земли; католического епископа умасливают высокими
титулами и назначениями; но самую тяжкую мзду налагает на нее протестантское
духовенство. Суровым судьей, а не подданным выступает перед королевою и Босуэлом
пастор, требующий от нее публичного самоуничижения; пусть — она, католическая
государыня, племянница Гизов, обвенчается и по реформатскому, еретическому,
чину. Решившись на эту позорную уступку, Мария Стюарт теряет последнюю опору,
единственный козырь, какой у нее оставался: лишается поддержки католической
Европы, утрачивает благоволение папы, симпатии Испании и Франции. Теперь она
одна против всех. Сбылись слова одного из ее сонетов:
Pour
luy depuis j’ay mesprise l’honneur,
Ce
qui nous peust seul pourvoir de bonheur.
Pour
luy j’ay hazardé grandeur & conscience,
Pour
luy tous mes parents j’ay quitte & amis.
Я
для него забыла честь мою —
Единственное
счастье нашей жизни,
Ему
я власть и совесть отдаю,
Я
для него покинула семью,
Презренной
стала в собственной отчизне.
Но нет
средства помочь тому, кто сам себя отдал на заклание: бессмысленных жертв не
приемлют боги.
История
не помнит за многие столетия такой трагической свадьбы, как та, что имела место
15 мая 1567 года: все унижение Марии Стюарт, как в зеркале, отразилось в этой
мрачной картине. Первый ее брак с французским дофином был заключен среди бела
дня; то был день блистательного торжества. Десятки тысяч зрителей
приветствовали юную королеву, вся знать стеклась из городов и весей; послы всех
государств прибыли полюбоваться на то, как окруженная королевской фамилией и
цветом рыцарства дофина торжественно шествует в Нотр-Дам. Мимо ликующих трибун,
мимо восторженно машущих окон проследовала она в пышной процессии, и весь народ
благоговейно и радостно взирал на нее. Уже вторая свадьба была куда скромнее.
Не среди бела дня, а в сумерках рассвета, в шесть часов утра, соединил ее
священник с правнуком Генриха VII. Однако же на торжество явилась вся знать,
присутствовали послы, целые дни напролет шло пирование, Эдинбург веселился
напропалую. Эта же, третья свадьба — с Босуэлом (его еще второпях жалуют
титулом герцога Оркнейского) — совершается тайком, словно преступление. В
четыре часа утра — город еще спит, ночь нависла над крышами — несколько робких
фигур незаметно прокрадываются в замковую часовню, ту самую — не прошло еще и
трех месяцев, и королева еще не сняла свой траурный наряд, — где отпевали
ее убитого супруга. Пусто на сей раз в часовне. Приглашено много гостей, но
явилось оскорбительно мало, никому не хочется быть свидетелем того, как
королева Шотландии наденет кольцо на руку, злодейски прикончившую Генри
Дарнлея. Почти никто из лордов королевства не счел нужным прийти и даже не удосужился
извиниться, Меррей и Ленокс покинули страну, Мэйтленд и Хантлей — даже эти
полуверные держатся поодаль, а единственный человек, которому она, истовая
католичка, поверяла до сих пор свои тайные мысли, ее духовник, навсегда ее
покинул: печально возвещает страж ее совести, что отныне считает ее своей
утерянной овечкой. Ни один человек, дорожащий честью, не хочет видеть, как
убийца Дарнлея берет в супружество жену убиенного и как служитель божий
благословляет кощунственный союз. Напрасно умоляет Мария Стюарт французского
посланника быть на свадьбе, чтобы придать торжеству хотя бы видимость блеска.
Всегда столь обязательный друг, он наотрез отказывается прийти. Ведь его
присутствие могут истолковать как соизволение Франции. «Еще подумают, —
возражает он в свое оправдание, — что мой король как-то в этом замешан»; к
тому же он не хочет признать в Босуэле супруга Марии Стюарт. Священник не
служит обедни, молчит орган, обряд совершается с неприличной поспешностью.
Ввечеру слуги не осветили свечами зал, готовя его к танцам, не снарядили
пиршественных столов. Никто с криками «Largesse, largesse!»[134] не швырял денег в
народ, как это было на ее предыдущей свадьбе; холодная, пустая и сумрачная
часовня напоминает гроб; угрюмо, словно плакальщики на похоронах, выстроились
свидетели странного празднества. Свадебный кортеж не шествует через весь город
по ликующим улицам; издрогнув в пустынной часовне, удаляются новобрачные во
внутренние покои и прячутся за крепкие затворы.
Именно
теперь, когда она у цели, к которой неслась, бросив поводья, не разбирая
дороги, именно теперь в душе у Марии Стюарт происходит какой-то надлом.
Исступленная ее мечта завладеть Босуэлом и удержать его — сбылась; лихорадочно
ждала она, вперив глаза в одну точку, желанного часа соединения в обманчивой
надежде, что его близость, его любовь победят страх. Но теперь, когда ее
воспаленный взор не устремлен к одной цели, глаза ее прозревают; она
оглядывается и видит вокруг себя пустоту, ничто. Даже между ним, безрассудно
любимым, и ею сразу же после женитьбы пошли нелады: всегда, когда двое
вовлекают друг друга в гибель, начинаются упреки и взаимные обвинения. Уже в
трагический день свадьбы французский посол находит королеву, обезумевшую, убитую
горем. Еще не спустился вечер, а между супругами уже пролегла холодная тень.
«Началось похмелье, — сообщает Дю Крок в Париж. — Когда в четверг Ее
Величество прислала за мной, я сразу почувствовал, что между ними не все ладно.
Чтобы отвести мне глаза, она сказала: если я нахожу ее печальной, то лишь
потому, что она ничего уже не ждет от жизни и жаждет одной лишь смерти. Вчера
из-за запертой двери, где они были одни с графом Босуэлом, вдруг раздались ее
крики; пусть ей дадут нож, она хочет покончить с собой. Люди в соседней
комнате, слышавшие эти вопли, выражали опасения, как бы она чего над собой не
сотворила, — один только бог в силах ей помочь». Ходят все новые слухи о
раздорах между супругами. Босуэл, очевидно, смотрит на развод со своей юной
красавицей женой как на пустую формальность и все ночи проводит с ней, а не с
Марией Стюарт. «Со дня злополучной свадьбы, — сообщает посол в Париж
несколько позднее, — Мария Стюарт не перестает стенать и лить слезы».
Итак, не успела ослепленная женщина достигнуть того, чего так пламенно добивалась,
как она уже знает, что все для нее потеряно и что даже смерть была бы избавлением
от той пытки, на которую она себя обрекла.
Три
недели длится тот горький медовый месяц — три недели неизбывного страха и
агонии. Все старания новобрачных как-нибудь удержаться, спастись идут прахом,
Босуэл на людях сугубо почтителен и нежен с королевой, он — сама преданность и
уважение, но никакие слова и позы уже ничего не могут изменить; в сумрачном
молчании взирает город на преступную чету. Тщетно старается диктатор снискать
любовь народа: он разыгрывает простодушного, доброго, благочестивого правителя;
он посещает проповеди реформатских священников, однако протестантское
духовенство держится так же враждебно, как и католическое. Он пишет смиренные
письма Елизавете — она не внемлет. Он обращается в Париж — его не замечают.
Мария Стюарт зовет своих лордов — те шагу не делают из Стирлинга. Она требует,
чтобы ей вернули сына, — никакого ответа. Все затаилось, все зловеще
немотствует вокруг обреченной пары. Босуэл для поднятия духа еще устраивает напоследок
маскарад и водные игрища; он сам участвует в них, и королева с трибуны
улыбается ему бледной улыбкой. В зеваках, как всегда, недостатка нет, но
ликования не слышно. Какое-то оцепенение страха, какая-то мертвая неподвижность
объяла страну, одно неосторожное движение — и грянет буря возмущения и гнева.
Однако
Босуэл не из тех, кто обольщается сентиментальными иллюзиями. Опытный моряк, он
чувствует в этой зловещей тишине предвестие бури. Как всегда решительный, он
берется за приготовления. Он знает: в закладе его голова, и последнее слово в
близком споре скажет оружие. Лихорадочно набирает он отовсюду конных и пеших
ратников, чтобы достойно встретить нападение. С готовностью жертвует Мария
Стюарт для его наемников все, чем она еще может пожертвовать: продает драгоценности,
занимает где только можно и даже — позор для шотландской, оскорбление для
английской королевы — отдает перелить недавно привезенную золотую купель — дар
Елизаветы крестнику, — чтобы получить лишний десяток золотых монет и хоть
немного продлить агонию. Но от молчания лордов все больше веет грозой,
свинцовые тучи обложили королевский замок, вот-вот ударит молния. Босуэлу
слишком знакомо коварство его сотоварищей, чтобы доверять этому спокойствию; он
знает: на него готовится вероломное нападение. И чем ждать приступа в незащищенном
Холируде, он седьмого июня, без малого три недели спустя после бракосочетания,
бежит в неприступную Бортуикскую крепость, поближе к своим верным. Туда же
созывает Мария Стюарт на двенадцатое июня, очевидно, в последней попытке
обратиться к народу, своих subjects, noblemen, knights, esquires, gentlemen and
yeomen[135],
предлагая им явиться в полном вооружении, с шестидневным запасом довольствия;
видимо, Босуэл замыслил молниеносным ударом разбить всю шайку своих врагов,
прежде чем они соберутся с силами.
Но как
раз это бегство из Холируда и придает лордам храбрости. С великой поспешностью
подступают они к Эдинбургу и захватывают его, не встречая сопротивления.
Подручный Босуэла, убийца Джеймс Балфур, торопясь отречься от своего сообщника,
сдает врагу неприступный замок. Обеспечив себе таким образом тыл, две-три
тысячи всадников могут спокойно ударить на Бортуик, чтобы захватить Босуэла еще
до того, как он приведет войско в боевую готовность. Но Босуэл не дает взять
себя голыми руками. Не долго думая, выскакивает он в окно и очертя голову
мчится прочь, оставив королеву одну в Бортуикском замке. Лорды все еще не
отваживаются обнажить оружие против своей монархини и только уговаривают ее
порвать с ее погубителем Босуэлом. Однако злосчастная женщина по-прежнему телом
и душой предана своему тирану; ночью, переодетая в мужское платье, она смело
садится в седло и одна, без провожатых, кинув все на произвол судьбы, скачет в
Данбар, чтобы с ним жить или умереть.
Некий
многозначительный сигнал должен был бы подсказать королеве, что дело ее
безнадежно потеряно. В день их бегства в Бортуикский замок внезапно исчезает
«without leave-taking»[136]
ее последний советник Мэйтленд Летингтонский, единственный, кто и в дни
ослепления Марии Стюарт относился к ней с известной благожелательностью.
Сравнительно большой отрезок рокового пути пройден Мэйтлендом вместе с его
госпожой; быть может, никто так усердно, как он, не помогал сплести удавку для
Дарнлея. Но теперь и он учуял задувший противный ветер и, как истый дипломат,
всегда поворачивающий свой парус в сторону сильнейшего, а не бессильного, не
хочет больше отстаивать безнадежное дело. Воспользовавшись суетой при переезде
в Бортуик, он поворачивает коня и, незаметно отстав от королевского поезда,
направляется в стан лордов. Последняя крыса бежит с тонущего корабля.
Но ничто
уже не может испугать или остеречь неисправимую Марию Стюарт. Опасность, как
всегда, лишь разжигает в этой изумительной женщине неукротимую отвагу, которая
и самым сумасбродным ее выходкам сообщает какое-то романтическое очарование.
Прискакав в Данбар в мужском платье, она не находит здесь ни королевского
убора, ни лат, ни оружия. Неважно! Что ей теперь жеманство и придворный этикет!
На войне как на войне! И Мария Стюарт, не задумываясь, занимает у бедной
женщины одежду, какую носит простонародье: короткую клетчатую юбку — kilt,
красную блузу и бархатную шляпу; пусть у нее в этом одеянии неподобающий, не
королевский вид — только бы скакать бок о бок с тем, кто для нее весь мир, с
тех пор как она всего лишилась. Босуэл второпях строит свое разношерстное
войско. Никто из рыцарей, дворян и лордов не явился на зов, страна уже не
повинуется своей королеве, и только двести наемных аркебузиров в качестве
ударного отряда движутся на Эдинбург, а за ними тянется плохо вооруженная орда
пограничных крестьян и горцев — в общем, человек тысяча с небольшим.
Единственно неколебимая воля Босуэла, стремящегося опередить лордов, гонит их
вперед. Босуэл знает; лишь безрассудная храбрость способна иной раз спасти то,
что кажется рассудку полной безысходностью.
У
Карберри-хилла, в шести милях от Эдинбурга, сходятся два полчища (полками их не
назовешь). Численное превосходство на стороне королевского войска. Но ни один
из лордов, ни один из этих великолепно снаряженных благородных всадников не
становится под вызывающе развернутое знамя с королевским львом; кроме наемных
аркебузиров, за Босуэлом следуют лишь кое-как вооруженные и не слишком
воинственно настроенные люди его клана. А напротив, на расстоянии не более
полумили, так близко, что Мария Стюарт различает знакомые лица своих
противников, сверкающими шеренгами на чудо-конях выстроились воинственные
лорды, радуясь предстоящему делу. Под странным они собрались знаменем, водрузив
его как раз насупротив королевского штандарта. На белом поле, распростертое под
деревом, лежит тело убитого. Рядом на коленях дитя, плача, простирает ручонки к
небу со словами: «Господи, к тебе взываю о суде и мести!» Тем самым лорды, еще
недавно наущавшие Босуэла расправиться с Дарнлеем, хотят представить себя
благородными мстителями, а также дать понять, что только против убийцы Дарнлея
выступили они вооружась, а отнюдь не восстали против своей королевы.
Ярко и
многоцветно полощутся на ветру оба знамени. Но ни там, ни здесь не чувствуется
настоящего подъема. Ни одно из полчищ не делает попыток перейти в наступление
через разделяющий их ручей; и те и другие будто чего-то ждут и только издали
наблюдают друг за другом. Собранное впопыхах мужичье Босуэла не выказывает
большого желания лечь костьми за дело, ему чуждое и темное. Лорды все еще
скованы нерешительностью. Не так это просто — с копьем и мечом открыто ударить
на свою законную государыню. Одно дело — состряпать добрый заговор и убрать
неугодного короля, ибо всегда найдутся два-три бедняка, которых можно будет
потом вздернуть, а самим торжественно умыть руки; подобные темные махинации
никогда не тревожили совести лордов; но с поднятым забралом, средь бела дня
ринуться на свою монархиню — слишком это противоречило идее феодальной верности,
все еще нерушимо владевшей умами.
От
французского посланника Дю Крока — он появляется на поле брани в качестве
нейтрального наблюдателя — не укрылось настроение обоих станов: не теряя
времени, предлагает он повести переговоры. В лагере лордов выкидывают
парламентерский флаг, и, радуясь лучезарному летнему дню, оба полчища
располагаются бивуаком, каждое по свою сторону ручья. Всадники спешиваются,
ратники сбрасывают с себя тяжелые доспехи, и все с удовольствием закусывают, а
между тем Дю Крок с небольшим конным эскортом переправляется через ручей и
поднимается на холм — в ставку королевы.
Поистине
невиданная аудиенция! Королева, никогда не принимавшая французского посла иначе
как в драгоценной робе, под тронным балдахином, сидит на камне в пестром «килте»,
короткая юбчонка не прикрывает колен. Но достоинство и неукротимая гордость у
нее те же, что и в придворном наряде. Возбужденная, бледная, невыспавшаяся, она
дает волю своему гневу. Словно чувствуя себя по-прежнему повелительницей
страны, госпожой положения, она требует, чтобы лорды беспрекословно ей
покорились. Сами же они вынесли Босуэлу оправдательный приговор, зачем же
теперь обвиняют его в убийстве? Сами настаивали на этом браке, а ныне объявляют
его преступным! Негодование Марии Стюарт законно, но не время ссылаться на
закон, когда поднят меч войны. Пока посол ведет переговоры, подъезжает Босуэл.
Посол приветствует его, однако руки не подает. Слово берет Босуэл. Он говорит
ясно, без колебаний, в его смелом, открытом взоре ни тени страха; даже Дю Крок
вынужден отдать должное безупречной выдержке этого головореза.
«Признаться, — пишет он в своем сообщении, — он показался мне
настоящим полководцем, так как говорил со мной с полным сознанием своего
достоинства, как искусный и смелый воитель, умеющий вести полки в бой. Я не мог
не восхищаться им, ибо он видел, что его противники настроены решительно, сам
же он едва ли мог рассчитывать и на половину своих людей. И все же он
непоколебим». Босуэл предлагает решить дело поединком с любым из лордов равного
ему ранга. Его дело правое, бог, конечно, не оставит его. Даже в столь
отчаянном положении сохраняет он свой обычный задор, предлагая Дю Кроку наблюдать
поединок с одного из холмов: увлекательное будет зрелище! Но королева и слышать
не хочет о поединке. Она все еще надеется, что лорды придут к ней с
повинной, — неисправимый романтик, она, как всегда, лишена чувства
действительности. Вскоре Дю Кроку становится ясна бесполезность его миссии;
старый вельможа видит слезы на глазах у Марии Стюарт, он и рад бы ей помочь,
но, пока она не откажется от Босуэла, ей нет спасения, а она не желает от него
отказаться. Итак, до свидания! Откланявшись с отменной любезностью, он неспешно
возвращается в стан лордов.
Время
слов миновало, пора дать бой. Но солдаты мудрее своих полководцев. Они видят,
что господа чинно беседуют, зачем же им, бедным горемыкам, убивать друг друга в
такой погожий летний день? Все разбрелись кто куда; напрасно Мария Стюарт
командует в атаку, видя в том единственное спасение, — люди больше ей не
повинуются. Вся эта орда с бору да с сосенки, уже шесть-семь часов пребывающая
в праздности, постепенно рассыпается, и как только лорды замечают это, они
посылают двести человек всадников отрезать Босуэлу и королеве отступление.
Только теперь понимает Мария Стюарт, что им грозит, и, как истинно любящая
женщина, думает не о себе, а только о своем возлюбленном Босуэле. Она знает: ни
у одного из ее подданных не поднимется рука на нее, зато его они не пощадят,
хотя бы уж затем, чтобы он не рассказал чего лишнего, что им, запоздалым
мстителям за смерть Дарнлея, может прийтись не по вкусу. Впервые за все эти
годы ломает она свою гордость. Она посылает в лагерь лордов парламентера с
белым флагом просить начальника конного отряда Керколди Грейнджского, чтобы он
прибыл к ней один, без провожатых.
Священный
приказ королевского величества еще исполнен магической, чудодейственной силы.
Керколди Грейнджский останавливает своих всадников. Один, он переправляется на
ту сторону и, прежде чем сказать что-либо, верноподданнически преклоняет
колено. Он ставит последнее условие: пусть королева откажется от Босуэла и
вместе с ними вернется в Эдинбург. Тогда Босуэла не станут преследовать —
скатертью дорога!
Босуэл —
изумительная сцена, изумительный актер! — стоит в молчании. Ни слова не говорит
он Керколди, ни слова королеве, чтобы не повлиять на ее решение. Чувствуется,
что он готов и один скакать навстречу двумстам всадникам, которые, стоя у
подошвы холма и не выпуская поводьев из рук, только и ждут сигнала Керколди,
его поднятого меча, чтобы ринуться на неприятельские линии. И лишь услышав, что
королева дала согласие на предложение Керколди, Босуэл подходит и обнимает ее —
в последний раз, но они еще этого не знают. Затем садится на коня и
стремительно скачет прочь, сопровождаемый двумя слугами. Горячечный сон
кончился. Наступает окончательное, жестокое пробуждение.
Страшное,
беспощадное пробуждение! Лорды обещали Марии Стюарт отвезти ее в Эдинбург с
подобающими почестями, и таково было, по-видимому, их первоначальное намерение.
Но едва униженная женщина в своей жалкой, запыленной одежде приближается к
толпе наемников, как огненной змейкой вспыхивает насмешка. Пока железный кулак
Босуэла защищал королеву, народный гнев не смел ее коснуться. Но теперь она
беззащитна, и ненависть дерзко и бесцеремонно поднимает голову. Королева,
сдавшаяся на капитуляцию, не внушает уважения мятежным солдатам. Все сильнее
напирают они, сначала движимые любопытством, а затем и возмущением. «На костер
шлюху!», «В огонь мужеубийцу!..» — раздаются исступленные крики. Тщетно
Керколди колошматит их мечом: едва рассеявшись, озлобленные толпы собираются с
новым ожесточением, и вот уж они, будто в триумфальном шествии, выступают
впереди своей, пленницы, неся в руках знамя с изображением убитого супруга и
молящего о мести дитяти. Так с шести до десяти вечера, от Лангсайда до
Эдинбурга, гонят они ее сквозь строй. Из каждого дома, из окружных деревень
прибывают все новые охотники посмотреть небывалое зрелище — полоненную
королеву, и порой натиск любопытствующих так велик, что они прорывают цепи
охраны и солдаты вынуждены прокладывать себе дорогу в толпе; ни разу не
изведала Мария Стюарт такого унижения, как в тот памятный день.
Однако
эту гордую женщину можно унизить, но нельзя согнуть. Как рана начинает гореть
лишь тогда, когда ее загрязнят, так Мария Стюарт чувствует свое унижение, лишь
когда оно сдобрено насмешкой. Ее горячая кровь — кровь Стюартов, кровь Гизов —
вскипает, и вместо того, чтобы мудро притвориться равнодушной, она вымещает
свою обиду на лордах, призывая их к ответу за народную хулу. Словно разъяренная
львица, набрасывается она на них, грозя, что прикажет их вздернуть, распять;
схватив за руку лорда Линдсея, едущего рядом, она грозится: «Клянусь этой
рукой, не сносить тебе головы!» Как всегда в минуты опасности, ее раздразненная
отвага переходит в безумие. Открыто изливает она на лордов свою ненависть, свое
презрение, вместо того чтобы мудро промолчать или трусливо заискивать в них.
Быть
может, именно ее озлобление вызывает ответное озлобление лордов, быть может, их
первоначальные намерения и не заходили так далеко. Ибо теперь, увидев, что им
нечего надеяться на прощение, они делают все, чтобы эта строптивица
почувствовала свою беззащитность. Вместо того чтобы доставить королеву в
Холирудский замок за стенами города, ее везут — и путь ее лежит через Керк
о’Филд, достопамятное место злодеяния, — по главной городской улице,
наводненной толпами зевак. Здесь, на Хай-стрит, ее приводят в дом профоса,
словно затем, чтобы выставить к позорному столбу. Доступ туда закрыт, ни одна
из ее дам или служанок не может к ней проникнуть. И вот начинается ночь
безысходного отчаяния. Королева уже много дней не раздевалась, с самого утра у
нее маковой росинки во рту не было; то, что эта женщина перенесла с Исхода до
захода солнца, не поддается описанию; она потеряла королевство и возлюбленного.
Под ее окнами, словно перед клеткой в зверинце, собирается гнусный городской
сброд, из толпы доносятся непристойные выкрики и площадная ругань. И только
теперь, когда, по мнению лордов, она достаточно унижена, вступают с ней в
переговоры. В сущности, от нее хотят немногого: лорды требуют, чтобы Мария
Стюарт окончательно порвала с Босуэлом. Но за безнадежное дело эта своенравная
женщина борется еще ожесточеннее, чем за то, что сулило бы ей самые радужные
надежды. С презрением отвергает она это условие, и один из ее противников
вынужден потом признать: «Никогда не доводилось мне видеть женщины более
мужественной и неустрашимой, чем королева в эти минуты».
Но
угрозы не помогают, и умнейший из лордов пытается действовать хитростью.
Мэйтленд, ее испытанный и еще недавно преданный советник, обращается к более
изощренным средствам. Играя на женской ревности и гордости, он рассказывает
Марии Стюарт — кто знает, где тут правда, а где ложь, разве поймешь у дипломата! —
что Босуэл ее обманывает: он даже в дни их бракосочетания поддерживал нежные
отношения с отставной женой и будто бы клялся ей, что она его настоящая супруга,
а королева только наложница. Но Мария Стюарт давно уже не верит никому из этих
обманщиков. Наветы Мэйтленда лишь усиливают ее раздражение, и Эдинбург
становится свидетелем жестокого зрелища; он видит свою королеву за оконной
решеткой; в изодранном платье, с обнаженной грудью и распущенными по плечам
волосами, она, как безумная, вскочила на подоконник и, истерически рыдая,
призывает народ спасти ее, так как вельможи заточили ее в тюрьму, и, невзирая
на свою ненависть, народ потрясен ее страданиями.
Положение
час от часу становится невыносимее. Лорды готовы бить отбой. Но они понимают,
что чересчур далеко зашли и что путь к отступлению им отрезан. Отвезти Марию
Стюарт в Холируд на правах королевы им уже кажется невозможным; но и оставить
ее в доме профоса, среди возбужденной толпы, значило бы рисковать слишком
многим: навлечь на себя гнев Елизаветы и чужеземных монархов. Единственного
человека, у которого достало бы мужества и авторитета, чтобы принять какое-то
решение, — Меррея — нет в стране, а без него лорды не в силах на что-либо
отважиться. А потому решено на первых порах отвезти королеву в безопасное
место, и в качестве такого избран замок Лохливен. Этот замок стоит посреди
озера и со всех сторон отрезан от суши, а владеет им Маргарита Дуглас, мать
Меррея, — вряд ли станет она мирволить дочери Марии де Гиз, женщины,
отнявшей у нее Иакова V. Осторожности ради лорды избегают в выданной ими
грамоте опасного слова «заточение»; королеву, гласит текст, подвергли домашнему
аресту, чтобы помешать ей снестись с помянутым графом Босуэлом или же
стакнуться с людьми, кои желали бы защитить его от справедливого возмездия. Это
лишь полумера, паллиатив, рожденный страхом и нечистой совестью: восстание еще
не решается объявить себя смутой, всю вину лорды валят на бежавшего Босуэла и
свое тайное намерение — свергнуть Марию Стюарт с престола — прячут под общими
рассуждениями и уклончивыми фразами. Чтобы обмануть народ, с нетерпением ждущий
суда над «девкою» (whore) и казни, Марию Стюарт семнадцатого июня вечером
увозят в Холируд; триста человек стражи охраняют королеву. Но едва лишь
обыватели улеглись спать, как во дворе замка строится небольшой отряд, которому
поручают отвезти ее в Лохливен, — и до утренней зари длится печальная,
одинокая скачка. В первом мерцании рассвета видит Мария Стюарт сверкающую гладь
озера, а посреди него — сильно укрепленный, одинокий, неприступный замок, ее
место заточения, — кто знает, на сколько долгих лет! В лодке перевозят ее
на остров, и окованные железом ворота с лязгом захлопываются. Исполненная
страсти и мрака баллада о Дарнлее и Босуэле приходит к концу: начинается
скорбная и унылая песня причитальная о вечном заточении.
|


