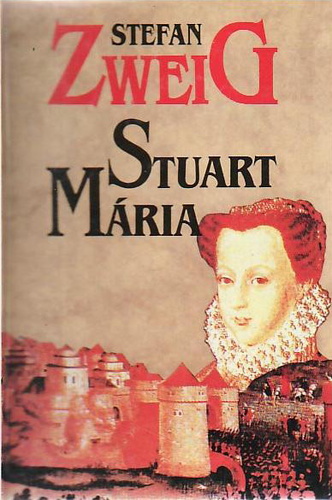
 Увеличить Увеличить |
4. Возвращение в
Шотландию
(август 1561 года)
Непроницаемо
густой туман — редкое явление летом у этих северных берегов — окутывает все
кругом, когда Мария Стюарт 19 августа 1561 года высаживается в Лейте. Но как же
отличается ее прибытие в Шотландию от расставания с la douce France[41]. Там с нею в
торжественных проводах прощался цвет французской знати: князья и графы, поэты и
музыканты соперничали в изъявлении преданности и подобострастной
почтительности. Здесь же никто ее не ждет; и только, когда суда пристают к
берегу, собирается изумленная толпа — несколько рыбаков в своей грубой одежде,
кучка слоняющихся без дела солдат, какие-то лавочники да крестьяне, пригнавшие
в город на продажу свой скот. Скорее робко, чем восторженно, следят они, как
богато разодетые именитые дамы и кавалеры высаживаются на берег. Угрюмая
встреча, мрачная и суровая, как душа этой северной страны! Чужие смотрят на
чужих. С первого же часа стесненной душой познает Мария Стюарт ужасающую
бедность своей родины: за пятидневный переход по морю она удалилась вспять на
целое столетие — из обширной, богатой, благоденствующей, расточительной,
упивающейся своей культурой страны попала в темный, тесный, трагический мир. В
городе, десятки раз спаленном дотла, разграбленном англичанами и повстанцами,
нет не только дворца, но даже господского дома, где ее могли бы достойно
приютить; и королева, чтобы обрести кров, вынуждена заночевать у простого
купца.
Первым
впечатлениям присуща особая власть, неизгладимо запечатлеваются они в душе.
Должно быть, молодая женщина не отдает себе отчета, что за неизъяснимая грусть
сковала ей сердце, когда после тринадцатилетнего отсутствия она, как чужая,
снова ступила на родную землю. Тоска ли об утраченном доме, бессознательное
сожаление о той полной тепла и сладости жизни, которую научилась она любить на
французской земле; давит ли ее это чужое серое небо или предчувствие грядущих
бед? Кто знает — но только, оставшись одна, королева, по словам Брантома,
залилась безутешными слезами. Не так, как Вильгельм Завоеватель[42], не с гордой
самонадеянностью властителя ступила она уверенной и твердой стопой на
британский берег, нет, первое ее ощущение — растерянность, недоброе
предчувствие и страх перед событиями, таящимися во мгле.
На
следующий день прискакал уведомленный о ее приезде регент, ее сводный брат
Джеймс Стюарт, более известный как граф Меррей; он прибыл с несколькими
дворянами, чтобы, спасая положение, хотя бы с какой-то видимостью почета
проводить королеву в уже недалекий Эдинбург. Но парадного шествия не
получилось. Англичане под неуклюжим предлогом, будто они отправляются на поиски
пиратов, задержали корабль с лошадьми ее двора, здесь же, в захолустном Лейте,
удается найти только одного пристойного коня в более или менее сносной сбруе,
которого и подводят королеве, женщинам же и дворянам ее свиты приходится
довольствоваться простыми деревенскими клячами, набранными по окрестным
конюшням и стойлам. Со слезами глядит Мария Стюарт на это зрелище, и снова ей
приходит на ум, сколь много утратила она со смертью своего супруга и какая
скромная доля — оказаться всего лишь королевой Шотландской, после того как ты
побыла королевой Франции. Гордость не дозволяет ей явиться своим подданным с
таким жалким обозом, и вместо joyeuse entrée[43]
по улицам Эдинбурга она сворачивает со своей свитой в замок Холируд, стоящий за
городскими стенами. Дом, построенный ее отцом, тонет в вечерней мгле,
выделяются только круглые башни и зубчатая линия крепостных стен; суровые
очертания фасада, сложенного из массивного камня, производят при первом взгляде
почти величественное впечатление.
Но с
какой ледяной будничностью встречают свою хозяйку, избалованную французской роскошью,
эти пустынные, угрюмые покои! Ни гобеленов, ни праздничного сияния огней,
которые, отражаясь в венецианских зеркалах, отбрасывают свет от стены к стене,
ни дорогих драпировок, ни мерцания золота и серебра. Здесь годами не держали
двора, в покинутых покоях давно заглох беззаботный смех, никакая королевская
рука после кончины ее отца не подновляла и не украшала этот дом; отовсюду
ввалившимися очами глядит нищета, извечное проклятие ее королевства.
Однако
едва в Эдинбурге услыхали, что королева прибыла в Холируд, как жители, несмотря
на поздний час, высыпали из домов и потянулись за городские ворота ее
приветствовать. Не удивительно, что изысканным, изнеженным французским
придворным эта встреча показалась грубоватой и неуклюжей: ведь у эдинбургских
обывателей нет своих musiciens de la cour[44],
чтобы позабавить ученицу Ронсара сладостными мадригалами и искусно положенными
на музыку канцонами. Только по стародавнему обычаю могут они восславить свою
королеву. Натаскав валежника — единственное, чем богата эта негостеприимная
местность, — они раскладывают на площадях костры, свои излюбленные
Bonfires, и жгут их до глубокой ночи. Толпами собираются они под ее окнами и на
волынках, дудках и других нескладных инструментах исполняют нечто, что на их
языке зовется музыкой, изощренному же слуху гостей представляется какой-то
адской какофонией; грубыми мужскими голосами распевают они псалмы и духовные
гимны — единственное, чем они могут приветствовать гостей, так как мирские
песни строго-настрого заказаны им кальвинистскими пастырями. Но Мария Стюарт
рада сердечному приему, во всяком случае, она смеется и благосклонно
приветствует свой народ. Так, по крайней мере на первые часы прибытия, между
государыней и ее подданными воцаряется единомыслие, какого здесь не знавали уже
десятки лет.
В том,
что неискушенную в политике правительницу ждут огромные трудности, отдавали
себе отчет и сама королева и ее советники. Пророческими оказались слова
умнейшего из шотландских вельмож Мэйтленда Летингтонского, писавшего по поводу
приезда Марии Стюарт, что он послужит причиною многих удивительных трагедий (it
could not fail to raise wonderful tragedies). Даже энергичный, решительный
мужчина, правящий железной рукой, не мог бы надолго умиротворить эту страну, а
тем более девятнадцатилетняя, несведущая в делах правления женщина, ставшая
чужой в собственной стране! Нищий край; развращенная знать, радующаяся любому
поводу для смуты и войны; бесчисленные кланы, только и ждущие случая превратить
свои усобицы и распри в гражданскую войну; католическое и протестантское
духовенство, яростно оспаривающее друг у друга первенство; опасная и зоркая
соседка, искусно разжигающая всякую искру недовольства в открытый мятеж, и ко
всему этому враждебные происки мировых держав, бесстыдно втравливающих Шотландию
в свою кровавую игру — в таком положении застает страну Мария Стюарт.
В тот
момент, когда она появляется в Шотландии, борьба достигла высшего накала.
Вместо набитых деньгами сундуков ей досталось от матери пагубное наследие
(поистине damnosa hereditas) — религиозная вражда, свирепствующая в этой стране
с особенной силою. За те годы, что она, баловница счастья, беспечно жила во
Франции, Реформации удалось победоносным маршем войти в Шотландию. Через дома и
усадьбы, через города и веси, через родство и свойство пролегла чудовищная
трещина: дворяне — одни католики, другие протестанты; города прилежат к новой
вере, деревни — к старой; клан восстал против клана, род против рода; вражда
между обоими лагерями постоянно разжигается фанатичными священниками и
поддерживается кознями иноземных государей. Особенную опасность для Марии
Стюарт представляет то, что наиболее могущественная и влиятельная часть ее
дворянства объединилась во враждебном ей кальвинистском лагере; возможность разжиться
богатыми церковными землями вскружила головы властолюбивым мятежникам. Наконец-то
представился им случай выступить против своей монархини в тоге добродетели, на
положении «лордов конгрегации», заступников веры, тем более что содействие
Англии им обеспечено. Скуповатая Елизавета уже более двухсот фунтов
пожертвовала на то, чтобы с помощью смут и вооруженных походов вырвать
Шотландию из-под власти католиков Стюартов, и даже сейчас, после торжественно
заключенного мира, большинство подданных соперницы тайно состоит у нее на
службе. Мария Стюарт может одним ударом восстановить равновесие, стоит ей лишь
перейти в протестантскую веру, и часть ее советников усиленно на этом
настаивает. Но недаром Мария Стюарт из дома Гизов. По матери она в кровном
родстве с самыми горячими поборниками католицизма, да и сама она, хоть и чужда,
фарисейскому благочестию, все же горячо и убежденно привержена вере отцов и
предков. Никогда не откажется она от своего исповедания и даже в минуты
величайшей опасности, по обычаю смелой натуры, предпочтет неугасимую борьбу
хотя бы одному трусливому шагу, противному ее совести и чести. Но тем самым
между ней и ее дворянством пролегла непроходимая пропасть; когда властителя и
его подданных разделяют религиозные верования, это к добру не приводит; весы не
могут вечно колебаться, та или другая чаша должна перевесить. В сущности, у
Марии Стюарт один только выбор — возглавить в стране Реформацию или пасть ее
жертвой. Неудержимый раскол между Лютером[45],
Кальвином[46]
и Римом неисповедимою волею судеб именно в ее участи получает свое
драматическое разрешение; личный конфликт между Марией Стюарт и Елизаветой,
между Англией и Шотландией призван решить — и в этом его огромное значение —
также и конфликт между Англией и Испанией, между Реформацией и
контрреформацией.
Это
положение, и само по себе пагубное, отягчено еще тем, что религиозный раскол
проник в семью королевы, в ее замок, ее совещательную палату. Влиятельнейший
шотландский вельможа, ее сводный брат Джеймс Стюарт, коему она вынуждена
доверить все дела правления, — и сам убежденный протестант, сберегатель
той «кирки», которую она, верующая католичка, считает погрязшей в ереси. Уже
четыре года, как он первым поставил свою подпись под присягою заступников веры,
так называемых «лордов конгрегации», присягою, коей они «отрекались от
сатанинского учения и обязывались открыто противиться его суеверству и
идолопоклонству». Сатанинское же учение, от которого они отреклись, и есть
католическое, то самое, что исповедует Мария Стюарт. Между королевой и регентом
с первой же минуты разверста непроходимая пропасть в наиболее важном, основоположном
для них вопросе, а это не обещает мира. Ибо в глубине души королева лелеет одно
заветное желание — искоренить Реформацию в Шотландии, а у ее регента и брата
одна цель — провозгласить протестантизм единственной господствующей религией в
Шотландии. Такое резкое идейное расхождение неминуемо должно привести к
открытому конфликту.
Означенный
Джеймс Стюарт призван стать в драме «Мария Стюарт» одним из ведущих персонажей;
судьба уготовила ему в ней важнейшую роль, и он мастерски ее проводит. Сын того
же отца, рожденный им в многолетнем сожительстве с Маргаритою Эрскин из
родовитейшей шотландской фамилии, он и по крови, и по своей железной энергии
как бы самой природою предназначен стать достойнейшим наследником престола.
Однако политическая зависимость вынудила Иакова V в свое время отказаться от
мысли узаконить свою связь с горячо любимою леди Эрскин; ради укрепления своей
власти и своих финансов он женится на французской принцессе, ставшей
впоследствии матерью Марии Стюарт. Над честолюбивым старшим сыном тяготеет
проклятье незаконного рождения, навсегда преграждающее ему дорогу к престолу.
Хоть папа по просьбе Иакова V и признал за старшим сыном, равно как и за
другими его внебрачными детьми, все права королевского происхождения, все же
Меррей остается бастардом без всяких прав на отцовский престол.
История
и ее величайший подражатель Шекспир дали миру немало примеров душевной трагедии
бастарда, этого сына и несына, у которого закон государственный, церковный и
человеческий безжалостно отнял те права, что сама природа запечатлела в его
крови и обличье. Осужденные трибуналом предрассудков, самым страшным и
непреклонным из судов человеческих, внебрачные дети, зачатые не на королевском
ложе, обойдены в пользу других наследников, порою слабейших, так как последних
произвела на свет не любовь, а политический расчет; вечно гонимые и изгоняемые,
они обречены клянчить там, где им надлежало бы владеть и властвовать. Но если
человека открыто заклеймить как неполноценного, то вечно преследующее его
чувство неполноценности должно либо совсем его согнуть, либо чудесным образом
укрепить. Трусливые и вялые души становятся под ярмом унижения еще мельче, еще
ничтожнее; попрошайки и лизоблюды, они клянчат подачек и милостей у тех, кто
благоденствует под сенью закона. Когда же обделен человек волевой, это высвобождает
в нем связанные темные силы: если добром не подпустить его к власти, он
постарается сам стать властью.
Меррей —
волевая натура. Неистовая решимость Стюартов, его царственных предков, их гордость
и властность неукротимо бродят в его крови; как человек, как личность он
незаурядным умом и твердой волею на голову выше, чем разбойничье племя
остальных графов и баронов. Его честолюбие метит высоко, его планы политически
обоснованы; умный, как и сестра, этот тридцатилетний искатель власти неизмеримо
превосходит ее практической сметкой и мужским опытом. Словно на играющее дитя,
смотрит он на нее сверху вниз и не мешает ей резвиться, доколе ее игра не
путает его планов. Зрелый муж, он не подвержен, как она, страстным,
нервическим, романтическим порывам; как правитель он лишен всего героического,
но зато умеет терпеливо ждать и, следовательно, владеет подлинной тайной
успеха, более надежным его залогом, чем внезапный жаркий порыв.
Мудрого
политика всегда отличает умение заранее отказаться от несбыточных мечтаний. Для
незаконнорожденного такой мечтой является царская корона. Никогда Меррею — и он
это прекрасно знает — не именоваться Иаковым Шестым. Трезвый политик, он
наперед отказывается от притязаний на престол Шотландии, чтобы с тем большим
основанием стать ее правителем — регентом (regent), поскольку ему нельзя быть
королем (rex). Он отказывается от королевских регалий и внешнего блеска, но
лишь для того, чтобы крепче удерживать в руках власть. С ранней молодости
рвется он к богатству, как наиболее осязаемому воплощению могущества,
выговаривает себе у отца огромное наследство, не брезгает богатыми дарами и на
стороне, использует в своих интересах секуляризацию церковных владений и войну
— словом, при каждом лове первым наполняет свою сеть. Без зазрения совести
принимает он от Елизаветы щедрые субсидии, и вернувшаяся в Шотландию королевой
Мария Стюарт находит в нем самого богатого и влиятельного вельможу, которого
уже не спихнешь с дороги. Скорее по необходимости, чем по внутренней
склонности, ищет она его дружбы и, радея о собственной выгоде, отдает сводному
брату в его ненасытные руки все, что он ни попросит, всячески утоляя его жажду
богатства и власти. По счастью для Марии Стюарт, руки у Меррея и впрямь
надежные, они умеют натягивать вожжи, умеют и отпускать. Прирожденный
государственный деятель, он держится золотой середины: он протестант, но не
буйный иконоборец; шотландский патриот, но отлично ладит с Елизаветой; свой
брат с лордами, но, когда нужно, умеет им пригрозить; короче говоря, этот
холодный, расчетливый человек с железными нервами не гонится за престижем
власти, так как удовлетворить его может только подлинная власть.
Такой
незаурядный человек — незаменимая опора для Марии Стюарт, доколе он ее союзник.
И величайшая опасность, когда он держит руку ее врагов. Как брат, связанный с
ней узами крови, он и сам не прочь поддержать ее, ведь никакой Гордон или
Гамильтон, оказавшись на ее месте, не предоставит ему такую неограниченную и
бесконтрольную власть; охотно позволяет он ей парадировать и блистать, без тени
зависти наблюдая, как она выступает на торжествах в предшествии скипетра и короны,
лишь бы никто не вмешивался в дела правления. Но как только она попытается
взять власть в свои руки и тем умалить его авторитет, гордость Стюартов
необоримо столкнется с гордостью Стюартов. Ибо нет вражды страшнее, чем та,
когда сходное борется со сходным, движимое одинаковыми стремлениями и с
одинаковой силою.
Мэйтленд
Летингтонский, второй по значению придворный вельможа и статс-секретарь Марии
Стюарт, тоже протестант. Но и он поначалу держит ее сторону. Мэйтленд, человек
незаурядного ума, образованный, просвещенных взглядов, «the flower of wits»[47], как
называет его Елизавета, не отличается гордостью и честолюбием Меррея. Дипломат,
он чувствует себя как рыба в воде в атмосфере политических происков и
комбинаций; такие незыблемые принципы, как религия и отечество, королевская
власть и государство, не его забота; его увлекают виртуозное искусство
одновременно ставить на всех игорных столах, завязывать и развязывать по своей
воле узелки интриг. На удивление преданный Марии Стюарт лично (одна из четырех
Марий, Мэри Флеминг, становится его женой), он непоследователен как в верности,
так и в неверности. Он будет служить королеве, пока ей сопутствует успех, и
покинет ее в минуту опасности; как флюгер, он показывает ей, попутный или противный
дует ветер. Как истинный политик, он служит не ей — королеве и другу, — а
единственно ее счастью.
Итак,
нигде, ни в городе, ни у себя дома — плохое предзнаменование! — не находит
Мария Стюарт по приезде надежного друга. И тем не менее с помощью Меррея, с
помощью Мэйтленда можно править, с ними можно как-то сговориться; зато
непримиримо, неумолимо, обуянный беспощадной, кровожадной ненавистью,
противостоит ей с первой же минуты могущественный выходец из низов Джон Нокс,
популярнейший проповедник Эдинбурга, основоположник и глава шотландской
«кирки», мастер религиозной демагогии. Между ним и Марией Стюарт завязывается
смертельный поединок, борьба не на жизнь, а на смерть.
Ибо
кальвинизм Джона Нокса представляет собой уже не просто реформатское обновление
церкви, это закостенелая государственно-религиозная система, в известной мере
nec plus ultra[48]
протестантизма. Он выступает как повелитель, фанатически требуя даже от
монархов рабского подчинения своим теократическим заповедям. С англиканской
церковью, с лютеранством, с любой менее суровой разновидностью реформатского
учения Мария Стюарт при своей мягкой, уступчивой натуре, возможно, и
столковалась бы. Но самовластные повадки кальвинизма исключают всякую возможность
соглашения с истинным монархом, и даже Елизавета, охотно прибегающая к услугам
Нокса, чтобы елико возможно пакостить Марии Стюарт, терпеть его не может за
несносную спесь. Тем более это фанатическое рвение должно претить гуманной и
гуманистически настроенной Марии Стюарт! Ей, жизнерадостной эпикурейке,
наперснице муз, чужда и непонятна трезвая суровость пресловутого женевского
учения, его враждебность всем радостям жизни, его иконоборствующая ненависть к
искусству, ей чуждо и непонятно надменное упрямство, казнящее смех, осуждающее
красоту, как постыдный порок, нацеленное на разрушение всего, что ей мило, всех
праздничных сторон общежития, музыки, поэзии, танцев, вносящее в сумрачный и
без того уклад жизни дополнительную сугубо сумрачную ноту.
Именно
такой угрюмый, ветхозаветный отпечаток накладывает на эдинбургскую «кирку» Джон
Нокс, самый чугуноголовый, самый фанатично безжалостный из всех основателей
церкви, неумолимостью и нетерпимостью превзошедший даже своего учителя
Кальвина. В прошлом захудалый католический священник, он с неукротимой яростью
истинного фанатика ринулся в волны Реформации, оказавшись последователем того
самого Джорджа Уишарта, который как еретик терпел гонения и был заживо сожжен
на костре матерью Марии Стюарт. Пламя, пожравшее учителя, продолжает неугасимо
гореть в душе ученика. Как один из вожаков восстания против правящей регентши,
он попадает в плен к вспомогательным французским войскам, и во Франции его
сажают на галеры. Хоть он и закован в цепи, воля его мужает, и вскоре она уже
тверже его железных оков. Отпущенный на свободу, он бежит к Кальвину; там
постигает он силу проповедуемого слова, заражается непоколебимой ненавистью
пуританина к светлому эллинскому началу и по возвращении в Шотландию, взяв за
горло со свойственной ему гениальной напористостью простонародье и дворянство,
за несколько считанных лет насаждает в стране Реформацию.
Джон
Нокс, быть может, самый законченный образец религиозного фанатика, какой знает
история; он тверже Лютера, у которого были свои минуты душевной разрядки,
суровее Савонаролы[49],
ибо лишен блеска и мистических воспарений его красноречия. Безусловно честный в
своей прямолинейности, он вследствие надетых на себя шор, стесняющих мысль,
становится одним из тех ограниченных, суровых умов, кои признают только истину
собственной марки, добродетель, христианство собственной марки, все же прочее
почитают не истиной, не добродетелью, не христианством. Всякий инакомыслящий
представляется ему злодеем; всякий, хоть на йоту отступающий от буквы его требований
— прислужником сатаны. Ноксу свойственна слепая неустрашимость маньяка,
страстность исступленного экстатика и омерзительная гордость фарисея; в его
жестокости сквозит опасное любование своим жестокосердием, в его нетерпимости —
мрачное упоение своей непогрешимостью. Шотландский Иегова с развевающейся
бородой, он каждое воскресенье в Сент-Джайлском соборе[50] мечет с амвона громы и
молнии на тех, кто не пришел его слушать; «убийца радости» (kill-joy), он
нещадно поносит «сатанинское отродье», беспечных, безрассудных людей, служащих
богу не по его указке. Ибо этот старый фанатик не знает иной радости, как торжество
собственной правоты, иной справедливости, как победа его дела. С наивностью
дикаря предается он ликованию, узнав, что какой-то католик или иной его враг
претерпел кару или поношение; если рукою убийц сражен враг «кирки», то,
разумеется, убийство совершилось попущением или соизволением божьим. Он затягивает
на своем амвоне благодарственный гимн, когда у малолетнего супруга Марии
Стюарт, бедняжки Франциска II, гной прорвался в ухо, «не желавшее слышать слово
господне»; когда же умирает Мария де Гиз, мать Марии Стюарт, он с увлечением
проповедует: «Да избавит нас бог в своей великой милости и от других порождений
той же крови, от всех потомков Валуа! Аминь! Аминь!» Не ищите ни кротости, ни
евангельской доброты в его проповедях, коими он оглушает, как дубинкою: его бог
— это бог мести, ревнивый, неумолимый; его библия — кровожаждущий, бесчеловечно
жестокий Ветхий завет. О Моаве, Амалеке[51]
и других символических врагах Израиля, коих должно предать огню и мечу,
неумолчно твердит он в остережение врагам истинной, иначе говоря, его веры. А
когда он ожесточенно поносит библейскую королеву Иезавель[52], слушатели ни минуты не
сомневаются в том, кто эта королева. Подобно тому как темные, величественные
грозовые облака заволакивают небо, и повергают душу в трепет неумолчными
громами и зигзагами молний, так кальвинизм навис над Шотландией, готовый
ежеминутно разразиться опустошительной грозой.
С таким
непреклонным, неподкупным фанатиком, который только повелевает и требует беспрекословного
подчинения, невозможно столковаться; любая попытка его вразумить или улестить
лишь усиливает в нем жестокость, желчную насмешку и надменность. О каменную
стену такого самодовольного упрямства разбивается всякая попытка
взаимопонимания. И всегда эти вестники господни — самые неуживчивые люди на
свете; уши их отверсты для божественного глагола, поэтому они глухи к голосу
человечности.
Мария
Стюарт и недели не пробыла дома, а зловещее присутствие этого фанатика уже дает
себя знать. Еще до того, как принять бразды правления, она не только даровала
своим подданным свободу вероисповедания — что при терпимости ее натуры не
представляло большой жертвы, — но и приняла к сведению закон, запрещающий
открыто служить мессу в Шотландии, — мучительная уступка приверженцам
Джона Нокса, которому, по его словам, «легче было бы услышать, что в Шотландии
высадилось десятитысячное вражеское войско, чем знать, что где-то служилась
хотя бы одна-единственная месса». Но набожная католичка, племянница Гизов,
разумеется, выговорила себе право совершать в своей домашней часовне все обряды
и службы, предписываемые ее религией, и парламент охотно внял этому
справедливому требованию. Тем не менее в первое же воскресенье, когда у нее
дома, в Холирудской часовне, шли приготовления к службе, разъяренная толпа
проникла чуть ли не в самый дворец; у ризничего вырывают из рук освященные
свечи, которые он нес для алтаря, и ломают на куски. Толпа все громче ропщет,
раздаются требования изгнать «попа-идолопоклонника», и даже предать его смерти,
все явственнее слышны проклятия «сатанинской мессе», еще минута — и дворцовая
часовня будет разнесена в щепы. К счастью, лорд Меррей, хоть он и приверженец
«кирки», бросается навстречу толпе и задерживает ее у входа. По окончании
службы, прошедшей в великом страхе, он уводит испуганного священника в его комнату
целым и невредимым: несчастье предотвращено, авторитет королевы кое-как удалось
спасти. Но веселые празднества в честь ее возвращения, «Joyousities», как
иронически называет их Джон Нокс, сразу же, к величайшему его удовольствию,
обриваются: впервые чувствует романтическая королева сопротивление
действительности в своей стране.
Мария
Стюарт не на шутку разгневана, слезами и яростными выкриками дает она волю
своему возмущению. И тут на ее все еще неясный характер снова проливается более
яркий свет. Такая юная, с ранних лет избалованная счастьем, она, в сущности,
нежная и ласковая натура, покладистая и обходительная; окружающие, от первых
вельмож двора до камеристок и служанок, не могут нахвалиться ее простотой и
сердечностью. Своей доступной манерой обращения, без тени надменности, она покоряет
всех, каждого заставляя забыть о своем высоком Сане. Однако за этой
сердечностью и приветливостью скрыто горделивое сознание собственного
избранничества, незаметное до тех пор, пока никто ее не задевает, но прорывающееся
со всей страстностью, едва кто-либо осмелится оскорбить ее ослушанием или
прекословием. Эта необычайная женщина порой умела забывать личные обиды, но
никогда не прощала она ни малейшего посягательства на свои королевские права.
Ни
минуты не станет она терпеть это первое оскорбление. Такую дерзость должно
пресечь сразу же, подавить в корне. И она знает, к кому адресоваться, знает,
что бородач из церкви еретиков натравливает народ на ее веру, это он подослал
шайку богохульников к ней в дом. Отчитать его как следует — и сию же минуту!
Ибо Мария Стюарт, вскормленная французскими традициями неограниченного
абсолютизма, с детства привыкшая к безусловному повиновению, выросшая в
понятиях неотъемлемой божественной благодати, и представить себе не может
ослушания со стороны одного из своих подданных, какого-то простого горожанина.
Она чего угодно ждет, но только не того, что кто-либо осмелится открыто, а тем
более грубо ей перечить. А Джону Ноксу только этого и нужно, он рвется в бой!
«Мне ли убояться смазливого личика высокородной аристократки, мне, который и
перед многими гневными мужами не опускал глаз и постыдно не робел!» С
воодушевлением спешит он во дворец, ибо спорить — во имя божие, как он
считает, — самое милое дело для фанатика. Если господь дает королям
корону, то своим пастырям и посланцам он дарует слово огненное. Для Джона Нокса
священнослужитель «кирки» выше короля, ибо он заступник прав господних. Его
дело — защищать царство божие на земле; без колебаний избивает он непокорных
увесистой дубинкой гнева своего, как во времена оны Самуил и судьи библейские[53]. Так
разыгрывается сцена совсем в духе Ветхого завета, сцена, где королевская
гордыня и поповское высокомерие сшибаются лбами; не женщина борется здесь с
мужчиной за верховенство, нет, две древние идеи уже который раз встречаются в
яростном поединке. Мария Стюарт приступает к беседе со всей мягкостью. Она ищет
взаимопонимания и подавляет в себе раздражение, так как хочет мира в своей
стране; учтиво начинает она переговоры. Однако Джон Нокс заранее настроился на
неучтивость, желая доказать этой «idolatress»[54],
что он не клонит головы перед сильными мира. Угрюмо и молчаливо, не как обвиняемый,
но как обвинитель, выслушивает он королеву, которая обращается к нему с упреком
по поводу его книги «The first blast of trumpet against the monstrous regiment
of women»[55],
отрицающей право женщины на престол. Но тот же самый Нокс, который по поводу
той же самой книги будет вымаливать прощение у протестантки Елизаветы, здесь,
перед своей государыней «паписткой», упрямо стоит на своем, приводя весьма
двусмысленные доводы. Разгорается перепалка. Мария Стюарт в упор спрашивает
Нокса: обязаны подданные повиноваться своему властелину или нет? Но вместо того
чтобы сказать: да, обязаны, на что и рассчитывает Мария Стюарт, сей искусный
тактик ограничивает необходимость повиновения некоей притчей: когда отец,
утратив разум, хочет убить своих детей, то дети вправе, связав ему руки,
вырвать у него меч. Когда князья преследуют детей божиих, те вправе
воспротивиться гонению. Королева сразу же чует за этой оговоркой восстание
теократа против ее державных прав.
— Стало
быть, мои подданные, — допытывается она, — должны повиноваться вам, а
не мне? Стало быть, я подвластна вам, а не вы мне?
Собственно,
именно таково мнение Джона Нокса. Но он остерегается в присутствии Меррея
высказать его ясно.
— Нет, —
отвечает он уклончиво, — и князь и его подданные должны повиноваться
господу. Королям надлежит быть кормильцами церкви, а королевам — ее мамками.
— Но
я не вашу церковь хочу кормить, — возражает королева, возмущенная
двусмысленностью его ответа. — Я хочу лелеять римско-католическую церковь,
для меня она единственная церковь божия.
Итак,
противники схватились грудь с грудью. Спор зашел в тупик, ибо не может быть
понимания между верующей католичкой и фанатичным протестантом. Нокс идет в
своей неучтивости еще дальше, он называет римско-католическую церковь
блудницей, недостойной быть невестой божией. Когда же королева запрещает ему
подобные выражения, как оскорбительные для ее совести, он отвечает с вызовом:
«Совести потребно познание», — он же боится, что королеве как раз не
хватает познания. Так вместо примирения эта первая беседа только обострила
взаимную вражду. Нокс знает теперь, что «сатана силен» и что юная
властительница никогда ему не покорится. «При этом объяснении я натолкнулся на
решимость, какой еще не встречал в возрасте, столь незрелом. С того дня у меня
со двором все покончено, равно как и у них со мной», — пишет он в
раздражении. Но и молодая женщина впервые ощутила предел своей королевской
власти. С гордо поднятой головой покидает Нокс дворец, довольный, что оказал
сопротивление королеве; в растерянности смотрит ему вслед Мария Стюарт и,
чувствуя свое бессилие, разражается горькими слезами. И это не последние слезы.
Вскоре она узнает, что власть не наследуют с кровью, а непрестанно завоевывают
вновь и вновь в борьбе и унижениях.
|


