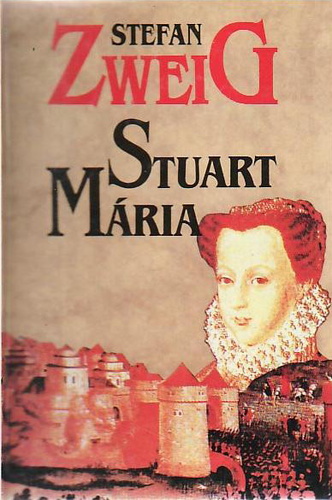
 Увеличить Увеличить |
5. Камень покатился
(1561-1563)
Первые
три года в Шотландии, проведенные Марией Стюарт на положении вдовствующей королевы,
проходят при полном штиле, без сколько-нибудь заметных потрясений; такова уж
особенность этой судьбы (недаром привлекающей драматургов), что все великие ее
события как бы сжимаются в короткие эпизоды стихийной силой. В эту пору правят
Меррей и Мейтленд, а Мария Стюарт только представительствует — удачное
разделение власти для всего государства. Ибо как Меррей, так и Мейтленд правят
разумно и осмотрительно, а Мария Стюарт отлично справляется со своими
обязанностями по части репрезентации. От природы красивая и обаятельная,
искушенная во всех рыцарских забавах, мастерски играющая в мяч, не по-женски
смелая наездница, страстная охотница, она уже внешними своими данными
завоевывает сердца: с гордостью глядят эдинбуржцы, как эта дочь Стюартов
поутру, с соколом на высоко поднятом кулачке, выезжает во главе празднично пестреющей
кавалькады, с ласковой готовностью отвечая на каждое приветствие. Что-то
светлое и радостное, что-то трогательное и романтичное озарило суровую, темную
страну с появлением этой королевы, словно солнце юности и красоты, а ведь
красота и юность правителя всегда таинственно пленяют сердца подданных. Лордам,
в свою очередь, внушает уважение ее мужественная отвага. Целыми днями способна
эта молодая женщина в бешеной скачке мчаться без устали впереди своей свиты.
Как душа ее под чарующей приветливостью таит еще не раскрывшуюся железную
гордость, так и гибкое, словно лоза, нежное, легкое женственно-округлое тело
скрывает необычайную силу. Никакие трудности не страшны ее жаркой отваге;
однажды, наслаждаясь быстрой скачкой, она сказала своему спутнику, что хотела б
быть мужчиной, изведать, каково это — всю ночь провести в поле на коне. Когда
регент Меррей выезжает в поход против мятежного клана Хантлей, она бесстрашно
скачет с ним рядом с мечом на боку, с пистолетами за поясом: отважные
приключения неотразимо манят ее неведомым очарованием чего-то дикого и
опасного, ибо отдаваться чему-либо всеми силами своего существа, всем пылом
своей любви, всей своей необузданной страстью — сокровеннейшее призвание этой
энергичной натуры. Но, неприхотливая и выносливая, точно воин, точно охотник,
во всех этих скачках и похождениях, она умеет быть совсем другой в своем замке,
повелительница во всеоружии искусства и культуры, самая веселая, самая
очаровательная женщина в своем маленьком мирке; поистине в этой короткой юности
воплотился идеал века — мужество и нежность, сила и смирение, явленные нам
рыцарской романтикой. Последним, предзакатным сиянием куртуазной chevalerie,
воспетой трубадурами, светится это прекрасное видение в тумане холодного северного
края, уже омраченного тенями Реформации.
Но
никогда романтический образ этой женщины-отроковицы, этой девочки-вдовы, не
сверкал так лучезарно, как на двадцатом, двадцать первом ее году, — и
здесь торжество приходит к ней слишком рано, непонятное и ненужное. Ибо все еще
не пробудилась вполне ее внутренняя жизнь, еще женщина в ней не знает велений
крови, еще не развилась, не сложилась ее личность. Только в минуты волнений и
опасностей раскрывается истинная Мария Стюарт, а эти первые годы в Шотландии для
нее лишь время безразличного ожидания, и она коротает его в праздных забавах,
как бы пребывая в постоянной готовности еще неизвестно к чему и для чего. Это
словно вдох перед решающим усилием, бесцветный, мертвый интервал. Марию Стюарт,
уже полуребенком владевшую всей Францией, не удовлетворяет убогое владычество в
Шотландии. Не для того, чтобы править этой бедной, тесной, заштатной страной,
возвратилась она на родину; с первых же шагов смотрит она на эту корону лишь
как на ставку во всемирной игре, рассчитывая выиграть более блестящую. Сильно
заблуждается, кто думает или утверждает, будто Мария Стюарт не желала ничего
лучшего, как тихо и мирно управлять наследием своего отца в качестве примерной
девочки, преемницы шотландской короны. Тот, кто приписывает ей столь утлое
честолюбие, умаляет ее величие, ибо в этой женщине живет неукротимая,
неудержимая воля к большой власти; никогда та, что пятнадцати лет венчалась в
Нотр-Дам с французским наследным принцем, та, кого в Лувре чествовали с
величайшей пышностью, как повелительницу миллионов, никогда она не
удовлетворится участью госпожи над двумя десятками непокорных мужланов,
именуемых графами и баронами, — королевы каких-то двухсот тысяч пастухов и
рыбарей. Искусственная, фальшивая натяжка — приписывать ей задним числом некое
национально-патриотическое чувство, открытое веками позднее. Князьям
пятнадцатого, шестнадцатого веков — всем, не исключая ее великой антагонистки
Елизаветы, — дела нет до их народов, а лишь до своей личной власти.
Империи перекраиваются, как платья, государства создаются войнами и браками, а
не пробуждением национального самосознания. Не надо впадать в сентиментальную
ошибку; Мария Стюарт той поры готова променять Шотландию на испанский,
французский, английский, да, в сущности, на любой другой престол; вероятно, ни
слезинки не проронила б она, расставаясь с лесами, озерами и романтическими
замками своей отчизны; ее неумное честолюбие рассматривает это маленькое
государство всего лишь как трамплин для более высокой цели. Она знает, что по
своему рождению призвана к власти, знает, что красота и блестящее воспитание
делают ее достойной любой европейской короны, и с той беспредметной
мечтательностью, с какой ее сверстницы грезят о безграничной любви, грезит ее
честолюбие лишь о безграничной власти.
Потому-то
она вначале и бросает на Меррея и Мэйтленда все государственные дела — без малейшей
ревности, без участия и интереса; ни капли не завидуя — что ей, так рано
венчанной, так избалованной властью, эта бедная, тесная страна! —
позволяет она им править и владеть по-своему. Никогда управление, приумножение
своего достояния — это высшее политическое искусство — не было сильной стороной
Марии Стюарт. Она может только защищать, но не сохранять. Лишь когда ущемляется
ее право, когда задета ее гордость, когда чужая воля угрожает ее притязаниям, в
ней пробуждается дикая, порывистая энергия; только в решительные мгновения
становится эта женщина великой и деятельной; обыкновенные времена находят ее
обыкновенной и безучастной.
В эту
пору затишья стихают и козни ее великой противницы; ибо всегда, когда пылкое
сердце Марии Стюарт осеняют мир и покой, успокаивается и Елизавета. Одним из
величайших политических достоинств этой великой реалистки было умение считаться
с фактами, умение не восставать своевольно против неизбежного. Всеми средствами
пыталась она помешать возвращению Марии Стюарт в Шотландию, а потом делала все
возможное, чтобы его отодвинуть; но теперь, когда оно стало непреложным фактом,
Елизавета больше не борется, наоборот, она не жалеет стараний, чтобы завязать с
соперницей, которую устранить бессильна, дружественные отношения. Елизавета — и
это одна из самых положительных особенностей ее причудливого, своевольного
нрава, — как и всякая умная женщина, не любит войны, всегда, чуть дело
доходит до ответственных насильственных мер, она теряется и робеет; расчетливая
натура, она предпочитает искать преимуществ в переговорах и договорах,
добиваясь победы в искусном поединке умов. Едва лишь достоверно выяснилось, что
Мария Стюарт приезжает, лорд Меррей обратился к Елизавете с проникновенными
словами увещания, призывая ее заключить с шотландской королевой честную дружбу:
«Обе вы молодые, преславные королевы, и уже ваш пол возбраняет вам умножать
ваше величие войной и кровопролитием. Каждая из вас знает, что послужило
поводом для возникшей меж вами распри. Видит бог, больше всего я желал бы,
чтобы моя державная госпожа никогда не заявляла претензий как на государство
Вашего Величества, так и на титул. И все же вам должно пребыть и остаться
друзьями. Однако, поскольку с ее стороны было изъявлено такое притязание,
боюсь, как бы это недоразумение не стало меж вами, доколе причина его не
устранена. Ваше Величество не может пойти на уступки в этом вопросе, но и ей
трудно стерпеть, что на нее, столь близкую Англии по крови, смотрят там, как на
чужую. Нет ли здесь какого-то среднего пути?» Елизавета готова внять совету; в
качестве всего лишь королевы Шотландской, да еще под контролем английского
прихлебателя Меррея, Мария Стюарт не так уж ей страшна — прошли те времена, когда
она носила двойную корону, монархини Французской и Шотландской. Так почему бы
не выказать приязнь, хотя бы и чуждую ее сердцу? Вскоре между Елизаветой и
Марией Стюарт завязывается переписка, обе dear sisters[56] доверяют многотерпеливой
бумаге свои нежнейшие чувства. Мария Стюарт посылает Елизавете в знак любви
бриллиантовое кольцо, а та шлет ей взамен перстень еще более драгоценный; обе
успешно разыгрывают перед публикой и собой утешительное зрелище родственной
привязанности. Мария Стюарт заверяет, что «самое заветное ее желание в этом
мире — повидать свою добрую сестрицу», она готова разорвать союз с Францией,
так как ценит благосклонность Елизаветы «more than all uncles of the world»[57], тогда как
Елизавета затейливым крупным почерком, к коему она обращается лишь в самых
торжественных случаях, выводит велеречивые изъяснения в преданности и дружбе.
Но едва лишь дело доходит до того, чтобы договориться о личной встрече, как обе
осторожно увиливают. Их старые переговоры так и завязли на мертвой точке: Мария
Стюарт согласна подписать Эдинбургский договор о признании Елизаветы лишь при
условии, что та подтвердит ее права преемства; для Елизаветы же это все равно
что подписать собственный смертный приговор. Ни одна из сторон ни на йоту не
отступает от своих притязаний, цветистые фразы в конечном счете лишь прикрывают
непроходимую пропасть. Завоеватель мира Чингисхан сказал: «Не бывать двум
солнцам в небе и двум ханам на земле». Одна из них должна уступить — Елизавета
или Мария Стюарт. Обе в глубине души знают это, и каждая ждет своего часа. Но
пока решительный час не настал, почему не воспользоваться короткой передышкой?
Там, где недоверие неистребимо живет в душе, всегда отыщется повод раздуть
подспудный огонь во всепожирающее пламя.
Нередко
в эти годы юную королеву удручают мелочные заботы, утомляют докучные государственные
дела, все чаще и чаще чувствует она себя чужой среди забияк дворян, ей не по
себе от брани и лая воинствующих попов и от их тайных козней — в такие минуты
бежит она во Францию, свою отчизну сердца. Разумеется, Шотландии ей не
покинуть, но в своем Холирудском замке она создала себе маленькую Францию,
крошечный мирок, где свободно и невозбранно отдается самым заветным своим
влечениям, — собственный Трианон[58].
В круглой Холирудской башне держит она романтический двор во французском вкусе;
она привезла из Парижа гобелены и турецкие ковры, затейливые кровати, дорогую
мебель и картины, а также любимые книги в роскошных переплетах, своего Эразма и
Рабле, своего Ариосто и Ронсара[59].
Здесь говорят и живут по-французски, здесь в трепетном сиянии свечей вечерами
музицируют, затевают светские игры, читают стихи, поют мадригалы. При этом
миниатюрном дворе впервые по сю сторону Ла-Манша разыгрываются «маски», маленькие
классические пьесы «на случай», впоследствии, уже на английских подмостках,
увидевшие свой пышный расцвет. До глубокой ночи танцуют переодетые дамы и
кавалеры, и во время одного из таких танцев в масках, «The purpose»[60], королева
появляется даже в мужском костюме, в черных облегающих шелковых панталонах, а
ее партнер, поэт Шателяр[61],
переодет дамой — зрелище, которое повергло бы Джона Нокса в неописуемый ужас.
Но
пуритане, фарисеи и им подобные ворчуны на выстрел не подпускаются к этим
увеселениям, и тщетно кипятится Джон Нокс, изобличая премерзостные «souparis» и
«dansaris» и мечет громы с высоты амвона в Сент-Джайлсе, так что борода его
мотается, что твой маятник. «Князьям сподручнее слушать музыку и ублажать
мамону, чем внимать священному слову божию или читать его. Музыканты и льстецы,
погубители младости, угодней им, чем зрелые, умудренные мужи, — кого же
имеет в виду сей самонадеянный муж? — те, что целительными увещаниями
тщатся хоть отчасти истребить в них первозданный грех гордыни». Но юный веселый
кружок не ищет «целительных увещаний» этого «kill-joy», убийцы радости; четыре
Марии и два-три кавалера, преданных всему французскому, счастливы забыть здесь,
в ярко освещенном уютном зале — приюте дружбы, о сумраке неприветливой,
трагической страны, а Мария Стюарт прежде всего счастлива сбросить холодную
личину величия и быть просто веселой молодой женщиной в кругу сверстников и
единомышленников.
Такое
желание естественно. Но поддаваться беспечности всегда опасно для Марии Стюарт.
Притворство душит ее, осторожность скоро утомляет, однако похвальное, в
сущности, качество — неумение скрывать свои чувства — «Je ne sais point
déguiser mes sentiments», как она кому-то пишет, — приносит ей политически
больше неприятностей, нежели другим самая бесчеловечная жестокость, самый
злонамеренный обман. Известная непринужденность, которую королева разрешает
себе в обществе молодых людей, с улыбкою принимая их поклонение и даже порой
бессознательно поощряя его, располагает сумасбродных юнцов к неподобающей
фамильярности, а более пылким и вовсе кружит голову. Было, очевидно, в этой
женщине, чье очарованье так и не сумели передать писанные с нее портреты, нечто
воспламенявшее чувства; быть может, по каким-то незаметным признакам иные
мужчины уже тогда улавливали за мягкими, благосклонными и, казалось бы, вполне
уверенными манерами женщины-девушки неудержимую страстность, — так иной
раз за улыбчивым ландшафтом скрывается вулкан; быть может, задолго до того, как
Марии Стюарт самой открылась ее тайна, угадывали они мужским чутьем ее
неукротимый темперамент, ибо от нее исходили чары, склонявшие мужчин скорее к
чувственному влечению, нежели к романтической любви. Вполне вероятно, что в
слепоте еще не пробудившихся инстинктов она легче допускала чувственные
вольности — ласковое прикосновение, поцелуй, манящий взгляд, — нежели это
сделала бы умудренная опытом женщина, понимающая, сколько опасного соблазна в
таких невинных шалостях; иной раз она позволяет окружающим ее молодым людям
забывать, что женщина в ней, как королеве, должна оставаться недоступной для
чересчур смелых мыслей. Был такой случай: молодой шотландец, капитан Хепберн,
позволил себе по отношению к ней какую-то дурацки неуклюжую выходку, и только
бегство спасло его от грозной кары. Но как-то слишком небрежно проходит Мария
Стюарт мимо этого досадного инцидента, легкомысленно расценивая дерзкую
фривольность как простительную шалость, и тем придает храбрости другому
дворянину из тесного кружка своих друзей.
Это
приключение носит уже и вовсе романтический характер; как почти все, что
случается на шотландской земле, становится оно сумрачной балладой. Первый
почитатель Марии Стюарт при французском дворе, господин Данвилль, сделал своего
юного спутника и друга, поэта Шателяра, наперсником своих восторженных чувств.
Но вот господину Данвиллю, вместе с другими французскими дворянами
сопровождавшему Марию Стюарт в ее путешествии, пора вернуться домой, к жене, к
своим обязанностям; и трубадур Шателяр остается в Шотландии своего рода
наместником чужого поклонения. Однако не столь уж безопасно сочинять все новые
и новые нежные стихи — игра легко превращается в действительность. Мария Стюарт
бездумно принимает поэтические излияния юного гугенота, в совершенстве
владеющего всеми рыцарскими искусствами, и даже отвечает на его мадригалы
стихами своего сочинения, да и какой молодой, знающейся с музами женщине,
заброшенной в грубую, отсталую страну, не было бы лестно слышать такие
прославляющие ее строфы:
Oh Déesse immortelle
Escoute donc ma voix
Toy qui tiens en tutelle
Mon pouvoir sous tes loix
Afin que si ma vie
Se voie en bref ravie,
Та cruauté
La confesse périe
Par ta seule beauté.
К
тебе, моей богине,
К
тебе моя мольба.
К
тебе, чья воля ныне —
Закон
мой и судьба.
Верь,
если б в дни расцвета
Пресекла
путь мой Лета,
Виновна
только ты,
Сразившая
поэта
Оружьем
красоты! —
тем
более что она не знает за собой никакой вины? Ибо разделенным чувством Шателяр
похвалиться не может — его страсть остается безответной. Уныло вынужден он
признать:
Et
néansmoins la flâme
Que
me brûle et enflâme
De passion
N’émeut jamais ton âme
D’aucune
affection.
Ничто
не уничтожит
Огня,
который гложет
Мне
грудь,
Но
он любовь не может
В
тебя вдохнуть.
Вероятно,
лишь как поэтическую хвалу на фоне других придворных и подобострастных ласкательств
с улыбкой приемлет Мария Стюарт — она и сама поэтесса и знает, сколь условны
эти лирические воспарения, — прочувствованные строфы своего пригожего
Селадона, и, конечно же, только терпит она галантные любезности, не
представляющие собой ничего неуместного при романтическом дворе женщины. С
обычной непосредственностью шутит и забавляется она с Шателяром, как и с
четырьмя Мариями. Она отличает его невинными знаками внимания, избирает того,
кто по правилам этикета должен созерцать ее из почтительного отдаления, своим
партнером в танцах и как-то в фигуре фокингданса слишком близко склоняется к
его плечу; она дозволяет ему более вольные речи, чем допустимо в Шотландии в
трех кварталах от амвона Джона Нокса, неустанно обличающего «such fashions more
lyke to the bordell than to the comeliness of honest women»[62], она, быть может, даже
дарит Шателяру мимолетный поцелуй, танцуя с ним в «маске» или играя в фанты.
Но, пусть и безобидное, кокетство приводит к фатальной развязке; подобно
Торквато Тассо[63],
юный поэт склонен преступить границы, отделяющие королеву от слуги, почтение от
фамильярности, галантность от учтивости, шутку от чего-то серьезного, и
безрассудно отдаться своему чувству. Неожиданно происходит следующий досадный
эпизод: как-то вечером молодые девушки, прислуживающие Марии Стюарт, находят в
ее опочивальне поэта, спрятавшегося за складками занавеси. Сперва они судят его
не слишком строго, усмотрев в непристойности скорее мальчишескую проделку.
Браня озорника больше для виду, они выпроваживают его из спальни. Да и сама
Мария Стюарт принимает эту выходку скорее с благодушной снисходительностью, чем
с непритворным возмущением. Случай этот тщательно скрывают от брата королевы, и
о какой-либо серьезной каре за столь чудовищное нарушение всякого благоприличия
вскоре никто уже и не помышляет. Однако потворство не пошло безумцу на пользу.
То ли он усмотрел поощрение в снисходительности молодых женщин, то ли страсть
превозмогла доводы рассудка, но вскоре он отваживается на новую дерзость. Во
время поездки Марии Стюарт в Файф он следует за ней тайно от придворных, и
снова его обнаруживают в спальне королевы, раздевающейся перед отходом ко сну.
В испуге оскорбленная женщина, поднимает крик, переполошив весь дом; из
смежного покоя выскакивает ее сводный брат Меррей, и теперь уже ни о прощении,
ни об умолчании не может быть и речи. По официальной версии, Мария Стюарт даже
потребовала (хоть это и маловероятно), чтобы Меррей заколол дерзкого кинжалом.
Однако Меррею, который в противоположность сестре умеет рассчитывать каждый
свой шаг, взвешивая его последствия, слишком хорошо известно, что, убив
молодого человека в спальне государыни, он рискует запятнать кровью не только
ковер, но и ее честь. Нет, такое преступление должно быть оглашено всенародно,
и воздается за него тоже всенародно — на городской площади; только этим и можно
доказать невиновность властительницы — как ее подданным, так и всему миру.
Несколько
дней спустя Шателяра ведут на плаху. В его дерзновенной отваге судьи усмотрели
преступление, в его легкомыслии — черную злонамеренность. Единогласно
присуждают они его к самой лютой каре — к смерти под топором палача. Мария
Стюарт, пожелай она даже, не могла бы помиловать безумца: послы донесли об этом
случае своим дворам, в Лондоне и Париже, затаив дыхание, следят за поведением
шотландской королевы. Малейшее слово в защиту виновного было бы равносильно
признанию в соучастии. И наперсника, делившего с ней немало приятных, радостных
часов, оставляет она в самый тяжкий его час без малейшей надежды и утешения.
Шателяр
умирает безупречной смертью, как и подобает рыцарю романтической королевы. Он
отказывается от духовного напутствия, единственно в поэзии ищет он утешения, а
также в сознании, что:
Mon malheur déplorable
Soit sur moy immortel.
Я
жалок, но мое
Страдание
бессмертно.
С высоко
поднятой головой восходит мужественный трубадур на эшафот, вместо псалмов и
молитв громко декламируя знаменитое «Послание к смерти» своего друга Ронсара:
Je te salue, heureuse et profitable Mort
Des extrêmes douleurs médecin et confort.
О
смерть, я жду тебя, прекрасный, добрый друг,
Освобождающий
от непосильных мук.
Перед
плахой он снова поднимает голову, чтобы воскликнуть — и это скорее вздох, чем
жалоба: «O cruelle dame!»[64],
а затем с полным самообладанием склоняется под смертоносное лезвие. Романтик,
он и умирает в духе баллады, в духе романтической поэмы.
Но
злополучный Шателяр — лишь случайно выхваченный образ в смутной веренице теней,
он лишь первым умирает за Марию Стюарт, лишь предшествует другим. С него
начинается призрачная пляска смерти, хоровод всех тех, кто за эту женщину
взошел на эшафот, вовлеченный в темную пучину ее судьбы, увлекая ее за собой.
Из всех стран стекаются они, безвольно влачась, словно на гравюре Гольбейна[65], за черным
костяным барабаном — шаг за шагом, год за годом, князья и правители, графы и
бароны, священники и солдаты, юноши и старцы, жертвуя собой во имя ее,
принесенные в жертву во имя ее — той, что безвинно виновата в их мрачном
шествии и во искупление своей вины сама его завершает. Не часто бывает, чтобы
судьба воплотила в женщине столько смертной магии: словно таинственный магнит,
вовлекает она окружающих ее мужчин в орбиту своей пагубной судьбы. Кто бы ни
оказался на ее пути, все равно в милости или немилости, обречен несчастью и
насильственной смерти. Никому не принесла счастья ненависть к Марии Стюарт. Но
еще горше платились за свою смелость дерзавшие ее любить.
А потому
гибель Шателяра лишь на поверхностный взгляд кажется нам случайностью, ничего
не говорящим эпизодом: впервые раскрывается здесь еще неясный закон ее судьбы,
гласящий, что никогда не будет ей дано безнаказанно предаваться беспечности,
жить легко и безмятежно. Так сложилась ее жизнь, что с первого же часа должна
изображать она величие, быть королевой, всегда и только королевой,
репрезентативной фигурой, игрушкою в мировой игре, и то, что на первых порах Казалось
благословением неба — раннее коронование, высокое рождение, — обернулось
на деле проклятием. Всякий раз как она пытается быть верной себе, отдаться
своему чувству, своим настроениям, своим истинным склонностям, судьба жестоко
наказывает ее за нерадивость. Шателяр лишь первое предостережение. После
детства, лишенного всего детского, она, пользуясь короткой передышкой до того,
как во второй, как в третий раз ее теле, ее жизнь отдадут чужому мужчине, выменяют
на какую-нибудь корону, — пытается хотя бы несколько месяцев быть только
молодой и беспечной, только дышать, только жить и бездумно радоваться жизни; и
тотчас жестокие руки отрывают ее от беспечных игр. Встревоженные этим
происшествием, торопят регент, парламент и лорды с заключением нового брака.
Пусть Мария Стюарт изберет себе супруга; разумеется, не того, кто придется ей
по вкусу, но такого, кто укрепит могущество и безопасность страны. Давно уже
ведутся переговоры, но теперь их возобновляют с новой энергией; дядьки и
опекуны трепещут, как бы эта ветреница какой-нибудь новой глупостью не загубила
свою честь и свой престиж. Снова закипел торг на брачном аукционе: опять Мария
Стюарт оттесняется в заклятый круг политики, которая с первого до последнего
часа держит ее в своей власти. И каждый раз как она стремится теплым живым
телом прорвать ледяное кольцо ради глотка воздуха, неизменно губит она чужую и
свою собственную участь.
|


