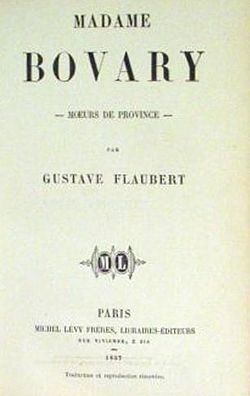
 Увеличить Увеличить |
Часть первая
I
Когда мы готовили уроки, к нам вошел директор, ведя за собой
одетого по-домашнему «новичка» и служителя, тащившего огромную парту. Некоторые
из нас дремали, но тут все мы очнулись и вскочили с таким видом, точно нас
неожиданно оторвали от занятий.
Директор сделал нам знак сесть по местам, а затем,
обратившись к классному наставнику, сказал вполголоса:
– Господин Роже! Рекомендую вам нового ученика – он
поступает в пятый класс. Если же он будет хорошо учиться и хорошо себя вести,
то мы переведем его к «старшим» – там ему надлежит быть по возрасту.
Новичок все еще стоял в углу, за дверью, так что мы с трудом
могли разглядеть этого деревенского мальчика лет пятнадцати, ростом выше нас
всех. Волосы у него были подстрижены в кружок, как у сельского псаломщика,
держался он чинно, несмотря на крайнее смущение. Особой крепостью сложения он
не отличался, а все же его зеленая суконная курточка с черными пуговицами,
видимо, жала ему в проймах, из обшлагов высовывались красные руки, не привыкшие
к перчаткам. Он чересчур высоко подтянул помочи, и из-под его светло-коричневых
брючек выглядывали синие чулки. Башмаки у него были грубые, плохо вычищенные,
подбитые гвоздями.
Начали спрашивать уроки. Новичок слушал затаив дыхание, как
слушают проповедь в церкви, боялся заложить нога на ногу, боялся облокотиться,
а в два часа, когда прозвонил звонок, наставнику пришлось окликнуть его, иначе
он так и не стал бы в пару.
При входе в класс нам всегда хотелось поскорее освободить
руки, и мы обыкновенно бросали фуражки на пол; швырять их полагалось прямо с
порога под лавку, но так, чтобы они, ударившись о стену, подняли как можно
больше пыли; в этом заключался особый шик.
Быть может, новичок не обратил внимания на нашу проделку,
быть может, он не решился принять в ней участие, но только молитва кончилась, а
он все еще держал фуражку на коленях. Она представляла собою сложный головной
убор, помесь медвежьей шапки, котелка, фуражки на выдровом меху и пуховой
шапочки, – словом, это была одна из тех дрянных вещей, немое уродство
которых не менее выразительно, чем лицо дурачка. Яйцевидная, распяленная на
китовом усе, она начиналась тремя круговыми валиками; далее, отделенные от валиков
красным околышем, шли вперемежку ромбики бархата и кроличьего меха; над ними
высилось нечто вроде мешка, который увенчивался картонным многоугольником с
затейливой вышивкой из тесьмы, а с этого многоугольника свешивалась на длинном
тоненьком шнурочке кисточка из золотой канители. Фуражка была новенькая, ее
козырек блестел.
– Встаньте, – сказал учитель.
Он встал; фуражка упала. Весь класс захохотал. Он нагнулся и
поднял фуражку. Сосед сбросил ее локтем – ему опять пришлось за ней нагибаться.
– Да избавьтесь вы от своего фургона! – сказал
учитель, не лишенный остроумия.
Дружный смех школьников привел бедного мальчика в
замешательство – он не знал, держать ли ему фуражку в руках, бросить ли на пол
или надеть на голову. Он сел и положил ее на колени.
– Встаньте – снова обратился к нему учитель, – и
скажите, как ваша фамилия.
Новичок пробормотал нечто нечленораздельное.
– Повторите!
В ответ послышалось то же глотание целых слогов, заглушаемое
гиканьем класса.
– Громче! – крикнул учитель. – Громче!
Новичок с решимостью отчаяния разинул рот и во всю силу
легких, точно звал кого-то, выпалил:
– Шарбовари!
Тут взметнулся невообразимый шум и стал расти crescendo[1] , со звонкими выкриками
(класс грохотал, гоготал, топотал, повторял: Шарбовари! Шарбовари!), а затем распался
на отдельные голоса, но долго еще не мог утихнуть и время от времени пробегал
но рядам парт, на которых непогасшею шутихой то там, то здесь вспыхивал
приглушенный смех.
Под градом окриков порядок мало-помалу восстановился,
учитель, заставив новичка продиктовать, произнести по складам, а потом еще раз
прочитать свое имя и фамилию, в конце концов разобрал слова «Шарль Бовари» и
велел бедняге сесть за парту «лентяев», у самой кафедры. Новичок шагнул, но
сейчас же остановился в нерешимости.
– Что вы ищете? – спросил учитель.
– Мою фур... – беспокойно оглядываясь, робко
заговорил новичок.
– Пятьсот строк всему классу!
Это грозное восклицание, подобно «Quos ego!»[2] , укротило вновь поднявшуюся бурю.
– Перестанете вы или нет? – еще раз прикрикнул
разгневанный учитель и, вынув из-под шапочки носовой платок, отер со лба
пот. – А вы, новичок, двадцать раз проспрягаете мне в тетради ridiculus
sum[3] . – Несколько
смягчившись, он прибавил: – Да найдется ваша фуражка! Никто ее не украл.
Наконец все успокоились. Головы склонились над тетрадями, и
оставшиеся два часа новичок вел себя примерно, хотя время от времени прямо в
лицо ему попадали метко пущенные с кончика пера шарики жеваной бумаги. Он
вытирал лицо рукой, но позы не менял и даже не поднимал глаз.
Вечером, перед тем как готовить уроки, он разложил свои
школьные принадлежности, тщательно разлиновал бумагу. Мы видели, как
добросовестно он занимался, поминутно заглядывая в словарь, стараясь изо всех
сил. Грамматику он знал недурно, но фразы у него получались неуклюжие, так что
в старший класс его, видимо, перевели только за прилежание. Родители, люди
расчетливые, не спешили отдавать его в школу, и основы латинского языка ему
преподал сельский священник.
У его отца, г-на Шарля-Дени-Бартоломе Бовари, отставного
ротного фельдшера, в 1812 году вышла некрасивая история, связанная с рекрутским
набором, и ему пришлось уйти со службы, но благодаря своим личным качествам он
сумел прихватить мимоходом приданое в шестьдесят тысяч франков, которое
владелец шляпного магазина давал за своей дочерью, прельстившейся наружностью
фельдшера. Красавчик, говорун, умевший лихо бряцать шпорами, носивший усы с
подусниками, унизывавший пальцы перстнями, любивший рядиться во все яркое, он
производил впечатление бравого молодца и держался с коммивояжерской бойкостью.
Женившись, он года два-три проживал приданое – плотно обедал, поздно вставал,
курил фарфоровые чубуки, каждый вечер бывал в театрах и часто заглядывал в
кафе. Тесть оставил после себя немного; с досады г-н Бовари завел было фабрику,
но, прогорев, удалился в деревню, чтобы поправить свои дела. Однако в сельском
хозяйстве он смыслил не больше, чем в ситцах, на лошадях своих катался верхом,
вместо того чтобы на них пахать, сидр тянул целыми бутылками, вместо того чтобы
продавать его бочками, лучшую живность со своего птичьего двора съедал сам,
охотничьи сапоги смазывал салом своих свиней – и вскоре пришел к заключению,
что всякого рода хозяйственные затеи следует бросить.
За двести франков в год он снял в одном селении,
расположенном на границе Ко и Пикардии, нечто среднее между фермой и помещичьей
усадьбой и, удрученный, преисполненный поздних сожалений, ропща на бога и всем
решительно завидуя, разочаровавшись, по его словам, в людях, сорока пяти лет от
роду уже решил затвориться и почить от дел.
Когда-то давно жена была от него без ума. Она любила его
рабской любовью и этим только отталкивала его от себя. Смолоду жизнерадостная,
общительная, привязчивая, к старости она, подобно выдохшемуся вину, которое
превращается в уксус, сделалась неуживчивой, сварливой, раздражительной. Первое
время она, не показывая виду, жестоко страдала от того, что муж гонялся за
всеми деревенскими девками, от того, что, побывав во всех злачных местах, он
являлся домой поздно, разморенный, и от него пахло вином. Потом в ней
проснулось самолюбие. Она ушла в себя, погребла свою злобу под плитой
безмолвного стоицизма – и такою оставалась уже до самой смерти. У нее всегда
было столько беготни, столько хлопот! Она ходила к адвокатам, к председателю
суда, помнила сроки векселей, добивалась отсрочки, а дома гладила, шила,
стирала, присматривала за работниками, платила по счетам, меж тем как ее
беспечный супруг, скованный брюзгливым полусном, от которого он возвращался к
действительности только для того, чтобы сказать жене какую-нибудь колкость,
покуривал у камина и сплевывал в золу.
Когда у них родился ребенок, его пришлось отдать кормилице.
Потом, взяв мальчугана домой, они принялись портить его, как портят наследного
принца. Мать закармливала его сладким; отец позволял ему бегать босиком и даже,
строя из себя философа, утверждал, что мальчик, подобно детенышам животных,
вполне мог бы ходить и совсем голым. В противовес материнским устремлениям он
создал себе идеал мужественного детства и соответственно этому идеалу старался
развивать сына, считая, что только суровым, спартанским воспитанием можно
укрепить его здоровье. Он заставлял его спать в нетопленном помещении, учил
пить большими глотками ром, учил глумиться над религиозными процессиями. Но
смирному от природы мальчику все это не прививалось. Мать таскала его за собой
всюду, вырезывала ему картинки, рассказывала сказки, произносила нескончаемые
монологи, исполненные горестного веселья и многоречивой нежности. Устав от
душевного одиночества, она сосредоточила на сыне все свое неутоленное,
обманувшееся честолюбие. Она мечтала о том, как он займет видное положение,
представляла себе, как он, уже взрослый, красивый, умный, поступает на службу в
ведомство путей сообщения или же в суд. Она выучила его читать, более того – выучила
петь два-три романса под аккомпанемент старенького фортепьяно. Но г-н Бовари не
придавал большого значения умственному развитию: «Все это зря!» – говорил он.
Разве они в состоянии отдать сына в казенную школу, купить ему должность или
торговое дело? «Не в ученье счастье, – кто победовей, тот всегда в люди
выйдет». Г-жа Бовари закусывала губу, а мальчуган между тем носился по деревне.
Во время пахоты он сгонял с поля ворон, кидая в них комья
земли. Собирал по оврагам ежевику, с хворостиной в руке пас индюшек, разгребал
сено, бегал по лесу; когда шел дождь, играл на церковной паперти в «классы», а
по большим праздникам, вымолив у пономаря разрешение позвонить, повисал всем
телом на толстой веревке и чувствовал, что он куда-то летит вместе с ней.
Так, словно молодой дубок, рос этот мальчик. Руки у него
стали сильные, щеки покрылись живым румянцем.
Когда ему исполнилось двенадцать лет, мать решительно
заявила, что его пора учить. Заниматься с ним попросили священника. Но польза
от этих занятий оказалась невелика, – на уроки отводилось слишком мало
времени, к тому же они постоянно срывались. Священник занимался с ним в
ризнице, стоя, наспех, урывками, между крестинами и похоронами, или, если
только его не звали на требы, посылал за учеником после вечерни. Он уводил его
к себе в комнату, там они оба усаживались за стол; вокруг свечки вилась мошкара
и ночные бабочки. В комнате было жарко, мальчик дремал, а немного погодя и
старик, сложив руки на животе и открыв рот, начинал похрапывать. Возвращаясь
иной раз со святыми дарами от больного и видя, что Шарль проказничает в поле,
он подзывал его, с четверть часа отчитывал и, пользуясь случаем, заставлял
где-нибудь под деревом спрягать глагол. Их прерывал дождь или знакомый
прохожий. Впрочем, священник всегда был доволен своим учеником и даже говорил,
что у «юноши» прекрасная память.
Ограничиться этим Шарлю не подобало. Г-жа Бовари настояла на
своем. Г-н Бовари устыдился, а вернее всего разговоры об этом ему
просто-напросто надоели, но только он сдался без боя, и родители решили ждать
лишь до той поры, когда мальчуган примет первое причастие, то есть еще один
год.
Прошло полгода, а в следующем году Шарля наконец отдали в
руанский коллеж, – в конце октября, в разгар ярмарки, приурочиваемой ко
дню памяти святого Романа, его отвез туда сам г-н Бовари.
Теперь уже никто из нас не мог бы припомнить какую-нибудь
черту из жизни Шарля. Это была натура уравновешенная: на переменах он играл, в
положенные часы готовил уроки, в классе слушал, в дортуаре хорошо спал, в
столовой хорошо ел. Опекал его оптовый торговец скобяным товаром с улицы Гантри
– раз в месяц, по воскресеньям, когда его лавка бывала уже заперта, он брал
Шарля из училища и посылал пройтись по набережной, поглядеть на корабли, а в
семь часов, как раз к ужину, приводил обратно. По четвергам после уроков Шарль
писал матери красными чернилами длинные письма и запечатывал их тремя
облатками, затем просматривал свои записи по истории или читал растрепанный том
«Апахарсиса», валявшийся в комнате, где готовились уроки. На прогулках он
беседовал со школьным сторожем, тоже бывшим деревенским жителем.
Благодаря своей старательности он учился не хуже других, а
как-то раз даже получил за ответ по естественной истории высшую отметку. В
нашем коллеже он пробыл всего три года, а затем родители его взяли – они хотели
сделать из него лекаря и были уверены, что к экзамену на бакалавра он сумеет
приготовиться самостоятельно.
Мать нашла ему комнату на улице О-де-Робек, на пятом этаже,
у знакомого красильщика. Она уговорилась с красильщиком насчет пансиона,
раздобыла мебель – стол и два стула, выписала из дому старую, вишневого дерева,
кровать, а чтобы ее бедный мальчик не замерз, купила еще чугунную печурку и
дров. Через неделю, после бесконечных наставлений и просьб к сыну вести себя
хорошо, особенно теперь, когда смотреть за ним будет некому, она уехала домой.
Ознакомившись с программой занятий, Шарль оторопел: курс
анатомии, курс патологии, курс физиологии, курс фармацевтики, курс химии, да
еще ботаники, да еще клиники, да еще терапия, сверх того – гигиена и основы
медицины, – смысл всех этих слов был ему неясен, все они представлялись
вратами в некое святилище, где царил ужасающий мрак.
Он ничего не понимал; он слушал внимательно, но сути не
улавливал. И все же он занимался, завел себе тетради в переплетах, аккуратно
посещал лекции, не пропускал ни одного занятия в клинике. Он исполнял свои
несложные повседневные обязанности, точно лошадь, которая ходит с завязанными
глазами по кругу, сама не зная – зачем.
Чтобы избавить его от лишних расходов, мать каждую неделю
посылала ему с почтовой каретой кусок жареной телятины, и это был его
неизменный завтрак, который он съедал но возвращении из больницы, топоча ногами
от холода. А после завтрака – бегом на лекции, в анатомический театр, в
больницу для хроников, оттуда через весь город опять к себе на квартиру.
Вечером, после несытного обеда у хозяина, он шел в свою комнату, снова садился
заниматься – поближе к раскаленной докрасна печке, и от его отсыревшей одежды
шел пар.
В хорошие летние вечера, в час, когда еще не остывшие улицы
пустеют, когда служанки играют у ворот в волан, он открывал окно и
облокачивался на подоконник. Под ним, между мостами, между решетчатыми оградами
набережных, текла превращавшая эту часть Руана в маленькую неприглядную Венецию
то желтая, то лиловая, то голубая река. Рабочие, сидя на корточках, мыли в ней
руки. На жердях, торчавших из слуховых окон, сушились мотки пряжи. Напротив,
над крышами, раскинулось безбрежное чистое небо, залитое багрянцем заката.
То-то славно сейчас, наверное, за городом! Как прохладно в буковой роще! И
Шарль раздувал ноздри, чтобы втянуть в себя родной запах деревни, но запах не
долетал.
Он похудел, вытянулся, в глазах у него появился оттенок
грусти, благодаря которому его лицо стало почти интересным.
Мало-помалу он начал распускаться, отступать от намеченного
плана, и вышло это как-то само собой. Однажды он не явился в клинику, на другой
день пропустил лекцию, а затем, войдя во вкус безделья, и вовсе перестал ходить
на занятия.
Он сделался завсегдатаем кабачков, пристрастился к домино.
Просиживать все вечера в грязном заведении, стучать по мраморному столику
костяшками с черными очками – это казалось ему высшим проявлением
самостоятельности, поднимавшим его в собственных глазах. Он словно вступал в
новый мир, впервые притрагивался к запретным удовольствиям. Берясь при входе за
ручку двери, он испытывал нечто вроде чувственного наслаждения. Многое из того,
что прежде он подавлял в себе, теперь развернулось. Он распевал на дружеских
пирушках песенки, которые знал назубок, восхищался Беранже, научился
приготовлять пунш и познал наконец любовь.
Благодаря такой блестящей подготовке он с треском провалился
на экзаменах и звания лекаря не получил. А дома его ждали в тот же день к
вечеру, собирались отметить это радостное событие в его жизни!
Домой он пошел пешком и, остановившись у въезда в село,
послал за матерью и все ей рассказал. Она простила его, объяснила его провал
несправедливостью экзаменаторов, обещала все устроить, и Шарль немного
повеселел. Г-н Бовари узнал правду только через пять лет. К этому времени она
уже устарела, и г-н Бовари примирился с нею, да он, впрочем, и раньше не
допускал мысли, что его отпрыск – болван.
Итак, Шарль снова взялся за дело, уже ничем не отвлекаясь,
стал готовиться к экзамену и все, что требовалось по программе, затвердил
наизусть. Отметку он получил довольно приличную. Какой счастливый день для
матери! Дома по этому случаю был устроен пир.
Да, но где бы ему применить свои познания? В Тосте. Там был
только один врач, и притом уже старый. Г-жа Бовари давно ждала его смерти, и не
успел бедный старик отправиться на тот свет, как Шарль в качестве его преемника
поселился напротив его дома.
Но воспитать сына, сделать из него врача, подыскать для него
место в Тосте – это еще не все, его надо женить. И г-жа Бовари нашла ему
невесту – вдову дьеппского судебного исполнителя, женщину сорока пяти лет, но
зато имевшую тысячу двести ливров годового дохода.
Госпожа Дюбюк была некрасива, суха как жердь, прыщей на ее
лице выступало столько, сколько весной набухает почек, и тем не менее женихи у
нее не переводились. Чтобы добиться своего, г-же Бовари пришлось их устранить,
и действовала она так ловко, что ей даже удалось перебить дорогу одному
колбаснику, за которого стояло местное духовенство.
Шарль рассчитывал, что брак поправит его дела, он воображал,
что будет чувствовать себя свободнее, сможет располагать и самим собою, и
своими средствами. Но супруга забрала над ним силу, она наказывала ему говорить
при посторонних то-то и не говорить того-то, он должен был поститься по
пятницам, одеваться по ее вкусу и допекать пациентов, которые долго не платили.
Она распечатывала его письма, следила за каждым его шагом и, когда он принимал
у себя в кабинете женщин, подслушивала за дверью.
По утрам она не могла обойтись без шоколаду; она требовала к
себе постоянного внимания. Вечно жаловалась то на нервы, то на боль в груди, то
на дурное расположение духа. Шум шагов ее раздражал; стоило от нее уйти – и она
изнывала в одиночестве; стоило к ней вернуться – ну конечно, вернулся
посмотреть, как она умирает. Вечером, когда Шарль приходил домой, она
выпрастывала из-под одеяла свои длинные худые руки, обвивала их вокруг его шеи,
усаживала его к себе на кровать и принималась изливать ему свою душевную муку:
он ее забыл, он любит другую! Недаром ей предсказывали, что она будет
несчастна. А кончалось дело тем, что она просила какого-нибудь сиропа для
поправления здоровья и немножко больше любви.
|


