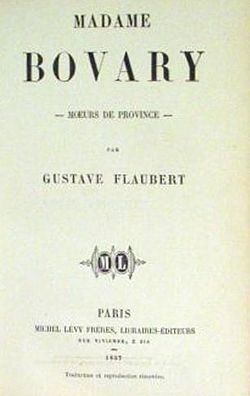
 Увеличить Увеличить |
XII
Они опять полюбили друг друга. Эмма часто писала ему днем
записки, потом делала знак в окно Жюстену, и тот, мигом сбросив фартук, мчался
в Ла Юшет. Родольф приходил; ей нужно было только высказать ему, как она без
него соскучилась, какой у нее отвратительный муж и как ужасна ее жизнь.
– Что же я-то здесь могу поделать? – однажды
запальчиво воскликнул Родольф.
– Ах, тебе стоит только захотеть!..
Эмма с распущенными волосами сидела у его ног и смотрела
перед собой отсутствующим взглядом.
– Что захотеть? – спросил Родольф.
Она вздохнула.
– Мы бы отсюда уехали... куда-нибудь...
– Да ты с ума сошла! – смеясь, проговорил
он. – Это невозможно!
Потом она снова вернулась к этой теме; он сделал вид, что не
понимает, и переменил разговор.
Он не признавал осложнений в таком простом деле, как любовь.
А у нее на все были свои мотивы, свои соображения, ее привязанность непременно
должна была чем-то подогреваться.
Так, отвращение к мужу усиливало ее страсть к Родольфу. Чем
беззаветнее отдавалась она любовнику, тем острее ненавидела мужа. Никогда еще
Шарль, этот тяжелодум с толстыми пальцами и вульгарными манерами, не был ей так
противен, как после свидания с Родольфом, после встречи с ним наедине.
Разыгрывая добродетельную супругу, она пылала страстью при одной мысли о черных
кудрях Родольфа, падавших на его загорелый лоб, об его мощном и в то же время
стройном стане, об этом столь многоопытном и все же таком увлекающемся
человеке! Для него она обтачивала свои ногти с тщательностью гранильщика, для
него не щадила ни кольдкрема для своей кожи, ни пачулей для носовых платков.
Она унизывала себя браслетами, кольцами, ожерельями. Перед его приходом она
ставила розы в две большие вазы синего стекла, убирала комнату и убиралась
сама, точно придворная дама в ожидании принца. Она заставляла прислугу то и
дело стирать белье. Фелисите по целым дням но вылезала из кухни, а Жюстен,
который вообще часто проводил с нею время, смотрел, как она работает.
Облокотившись на длинную гладильную доску, он с жадным
любопытством рассматривал разложенные перед ним принадлежности дамского
туалета: канифасовые юбки, косынки, воротнички, панталоны на тесемках, широкие
в бедрах и суживавшиеся книзу.
– А это для чего? – указывая на кринолин или на
застежку, спрашивал юнец.
– А ты что, первый раз видишь? – со смехом
говорила Фелисите. – Небось у твоей хозяйки, госпожи Оме, точь-в-точь
такие же.
– Ну да, такие же! – отзывался Жюстен и задумчиво
прибавлял: – Моя барыня разве что стояла рядом с вашей.
Но служанку раздражало, что он все вертится около нее. Она
была на шесть лет старше его, за нею уже начинал ухаживать работник г-на
Гильомена Теодор.
– Отстань ты от меня! – переставляя горшочек с
крахмалом, говорила она. – Поди-ка лучше натолки миндалю. Вечно трешься
около женщин. Еще бороденка-то у паршивца не выросла, а туда же!
– Ну, ну, не сердитесь, я вам сейчас ботиночки ее в
лучшем виде разделаю.
Он брал с подоконника Эммины башмачки, покрытые грязью
свиданий, под его руками грязь превращалась в пыль, и он смотрел, как она
медленно поднимается в луче солнца.
– Уж очень ты бережно с ними обращаешься! – говорила
кухарка. Сама она с ними не церемонилась, когда чистила, так как барыня,
заметив, что ботинки уже не имеют вида новых, сейчас же отдавала их ей.
У Эммы в шкафу было когда-то много обуви, но постепенно она
вся почти перешла к служанке, и Шарль никогда не выговаривал за это жене.
Без возражений уплатил он и триста франков за искусственную
ногу, которую Эмма сочла необходимым подарить Ипполиту. Протез был пробковый, с
пружинными сочленениями, – это был сложный механизм, заправленный в черную
штанину, с лакированным ботинком на конце. Однако Ипполит не мог себе позволить
роскошь ходить каждый день на такой красивой ноге и выпросил у г-жи Бовари
другую ногу, попроще. Лекарь, разумеется, оплатил и эту покупку.
Мало-помалу конюх опять начал заниматься своим делом. Снова
он стал появляться то тут, то там на улицах городка, и Шарль, издали заслышав
сухой стук костыля по камням мостовой, быстро переходил на другую сторону.
Все заказы брался выполнять торговец г-н Лере, – это
давало ему возможность часто встречаться с Эммой. Он рассказывал ей о парижских
новинках, обо всех диковинных женских вещицах, был чрезвычайно услужлив и
никогда не требовал денег. Эмму соблазнил такой легкий способ удовлетворять
свои прихоти. Так, например, ей захотелось подарить Родольфу очень красивый
хлыст, который она видела в одном из руанских магазинов. Через неделю г-н Лере
положил ей этот хлыст на стол.
Но на другой день он предъявил ей счет на двести семьдесят
франков и сколько-то сантимов, Эмма растерялась: в письменном столе было пусто,
Лестибудуа задолжали больше чем за полмесяца, служанке – за полгода, помимо
этого было еще много долгов, и Шарль с нетерпением ждал Петрова дня, когда г-н
Дерозере обыкновенно расплачивался с ним сразу за целый год.
Эмме несколько раз удавалось спровадить торговца, но в конце
концов он потерял терпение: его самого преследуют-де кредиторы, деньги у него
все в обороте, и, если он не получит хоть сколько-нибудь, ему придется забрать
у нее вещи.
– Ну и берите! – отрезала Эмма.
– Что вы? Я пошутил! – сказал он. – Вот
только хлыстика жаль. Ничего не поделаешь, я попрошу вашего супруга мне его
вернуть.
– Нет, нет! – воскликнула Эмма.
«Ага! Ты у меня в руках!» – подумал Лере.
Вышел он от Эммы вполне проникнутый этой уверенностью, по
своему обыкновению насвистывая и повторяя вполголоса:
– Отлично! Посмотрим! Посмотрим!
Эмма все еще напрягала мысль в поисках выхода из тупика,
когда появилась кухарка и положила на камин сверточек в синей бумаге «от г-на
Дерозере». Эмма подскочила, развернула сверток. В нем оказалось пятнадцать
наполеондоров. Значит, счет можно будет оплатить! На лестнице послышались шаги
мужа – Эмма бросила золото в ящик письменного стола и вынула ключ.
Через три дня Лере пришел опять.
– Я хочу предложить вам одну сделку, – сказал
он. – Если вам трудно уплатить требуемую сумму, вы можете...
– Возьмите, – прервала его Эмма и вложила ему в
руку четырнадцать наполеондоров.
Торговец был изумлен. Чтобы скрыть разочарование, он
рассыпался в извинениях и в предложениях услуг, но Эмма ответила на все
решительным отказом. После его ухода она несколько секунд ощупывала в карманах
две монеты по сто су, которые он дал ей сдачи. Она поклялась, что будет теперь
экономить и потом все вернет.
«Э! Да Шарль про них и не вспомнит!» – поразмыслив, решила
она.
Кроме хлыста с золоченой ручкой, Родольф получил в подарок
печатку с девизом: Amor nel cor[7] ,
шарф и, наконец, портсигар, точно такой же, какой был у виконта, – виконт
когда-то обронил портсигар на дороге, Шарль поднял, а Эмма спрятала на память.
Родольф считал для себя унизительным получать от Эммы подарки. От некоторых он
отказывался, но Эмма настаивала, и в конце концов, придя к заключению, что Эмма
деспотична и напориста, он покорился.
Потом у нее появились какие-то странные фантазии.
– Когда будет бить полночь, подумай обо мне! –
просила она.
Если он признавался, что не думал, на него сыпался град
упреков; кончалось же это всегда одинаково:
– Ты меня любишь?
– Конечно, люблю! – отвечал он.
– Очень?
– Ну еще бы!
– А других ты не любил?
– Ты что же думаешь, до тебя я был
девственником? – со смехом говорил Родольф.
Эмма плакала, а он, мешая уверения с шуточками, пытался ее
утешить.
– Да ведь я тебя люблю! – опять начинала
она. – Так люблю, что жить без тебя не могу, понимаешь? Иной раз так
хочется тебя увидеть – кажется, сердце разорвется от муки. Думаешь: «Где-то он?
Может, он сейчас говорит с другими? Они ему улыбаются, он к ним подходит...»
Нет, нет, тебе никто больше не нравится, ведь правда? Есть женщины красивее
меня, но любить, как я, никто не умеет! Я твоя раба, твоя наложница! Ты мой
повелитель, мой кумир! Ты добрый! Ты прекрасный! Ты умный! Ты сильный!
Во всем том, что она говорила, для Родольфа не было уже
ничего нового, – он столько раз это слышал! Эмма ничем не отличалась от
других любовниц. Прелесть новизны постепенно спадала, точно одежда, обнажая
вечное однообразие страсти, у которой всегда одни и те же формы и один и тот же
язык. Сходство в оборотах речи заслоняло от этого слишком трезвого человека
различие в оттенках чувства. Он слышал подобные фразы из продажных и развратных
уст и потому с трудом верил в искренность Эммы: «Высокопарными словами обычно
прикрывается весьма неглубокая привязанность», – рассуждал он. Как будто
полнота души не изливается подчас в пустопорожних метафорах! Ведь никто же до
сих пор не сумел найти точные слова для выражения своих чаяний, замыслов,
горестей, ибо человеческая речь подобна треснутому котлу, и когда нам хочется
растрогать своей музыкой звезды, у нас получается собачий вальс.
Однако даже при том критическом отношении, которое
составляет преимущество всякого, кто не теряет головы даже в самой упоительной
битве, Родольф находил для себя в этом романе нечто заманчивое. Теперь он уже
ничуть не стеснялся Эммы. Оп был с нею бесцеремонен. Он сделал из нее существо
испорченное и податливое. Ее сумасшедшая страсть была проникнута восторгом
перед ним, представляла для нее самой источник наслаждений, источник блаженного
хмеля, душа ее все глубже погружалась в это опьянение и, точно герцог Кларенс в
бочке с мальвазией, свертывалась комочком на самом дне.
Она уже приобрела опыт в сердечных делах, и это ее
преобразило. Взгляд у нее стал смелее, речи – свободнее. Ей теперь уже было не
стыдно гулять с Родольфом и курить папиросу, словно нарочно «дразня гусей».
Когда же она в один прекрасный день вышла из «Ласточки» в жилете мужского
покроя, у тех, кто еще сомневался, рассеялись всякие сомнения, и в такой же
мере, как местных жительниц, возмутило это и г-жу Бовари-мать, сбежавшую к сыну
после дикого скандала с мужем. Впрочем, ей не понравилось и многое другое:
во-первых, Шарль не внял ее советам запретить чтение романов; потом, ей не
нравился самый дух этого дома. Она позволяла себе делать замечания, но это
вызывало неудовольствие, а как-то раз из-за Фелисите у невестки со свекровью
вышла крупная ссора.
Накануне вечером г-жа Бовари-мать, проходя по коридору,
застала Фелисите с мужчиной – мужчиной лет сорока, в темных бакенбардах;
заслышав шаги, он опрометью выскочил из кухни. Эмму это насмешило, но почтенная
дама, вспылив, заявила, что только безнравственные люди не следят за
нравственностью слуг.
– Где вы воспитывались? – спросила невестка.
Взгляд у нее был при этом до того вызывающий, что г-жа
Бовари-мать сочла нужным спросить, уж не за себя ли вступилась Эмма.
– Вон отсюда! – крикнула невестка и вскочила с
места.
– Эмма!.. Мама!.. – стараясь помирить их,
воскликнул Шарль.
Но обе женщины в бешенстве вылетели из комнаты. Эмма топала
ногами и все повторяла:
– Как она себя держит! Мужичка!
Шарль бросился к матери. Та была вне себя.
– Нахалка! Вертушка! А может, еще и хуже! – шипела
свекровь.
Она прямо сказала, что, если невестка не придет к ней и не
извинится, она сейчас же уедет. Шарль побежал к жене – он на коленях умолял ее
уступить. В конце концов Эмма согласилась:
– Хорошо! Я пойду!
В самом деле, она с достоинством маркизы протянула свекрови
руку и сказала:
– Извините, сударыня.
Но, вернувшись к себе, бросилась ничком на кровать и
по-детски расплакалась, уткнувшись в подушку.
У нее с Родольфом был уговор, что в каком-нибудь
исключительном случае она прикрепит к оконной занавеске клочок белой бумаги:
если Родольф будет в это время в Ионвиле, то по этому знаку сейчас же пройдет
на задворки. Эмма подала сигнал. Прождав три четверти часа, она вдруг увидела
Родольфа на углу крытого рынка. Она чуть было не отворила окно и не окликнула
его, но он уже исчез. Эмма снова впала в отчаяние.
Вскоре ей, однако, послышались шаги на тротуаре. Конечно,
это был он. Она спустилась с лестницы, перебежала двор. Он стоял там, в
проулке. Она кинулась к нему в объятия.
– Ты неосторожна, – заметил он.
– Ах, если б ты знал! – воскликнула Эмма.
И тут она рассказала ему все – рассказала торопливо,
бессвязно, сгущая краски, выдумывая, со множеством отступлений, которые
окончательно сбили его с толку.
– Полно, мой ангел! Возьми себя в руки! Успокойся!
Потерпи!
– Но я уже четыре года терплю и мучаюсь!.. Наша с тобой
любовь такая, что я, не стыдясь, призналась бы в ней перед лицом божиим! Они
меня истерзали. Я больше не могу! Спаси меня!
Она прижималась к Родольфу. Ее мокрые от слез глаза
блестели, точно огоньки, отраженные в воде; от частого дыхания вздымалась
грудь. Никогда еще Родольф не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он
спросил:
– Что же делать? Чего ты хочешь?
– Возьми меня отсюда! – воскликнула она. –
Увези меня!.. Я тебя умоляю!
И она потянулась к его губам как бы для того, чтобы вместе с
поцелуем вырвать невольное согласие.
– Но... – начал Родольф.
– Что такое?
– А твоя дочь?
Эмма помедлила.
– Придется взять ее с собой! – решила она.
«Что за женщина!» – подумал Родольф, глядя ей вслед.
Она убежала в сад. Ее звали.
Все последующие дни Бовари-мать не могла надивиться
перемене, происшедшей в невестке. И точно: Эмма стала покладистее,
почтительнее, снизошла даже до того, что спросила свекровь, как надо мариновать
огурцы.
Делалось ли это с целью отвести глаза свекрови и мужу? Или
же это был своего рода сладострастный стоицизм, желание глубже почувствовать
убожество всего того, что она покидала? Нет, она была далека от этой мысли, как
раз наоборот: она вся ушла в предвкушение близкого счастья. С Родольфом она
только об этом и говорила. Положив голову ему на плечо, она шептала:
– Ах, когда же мы будем с тобой в почтовой карете!.. Ты
можешь себе это представить? Неужели это все-таки совершится? Когда лошади
понесут нас стрелой, у меня, наверно, будет такое чувство, словно мы
поднимаемся на воздушном шаре, словно мы возносимся к облакам. Знаешь, я уже
считаю дни... А ты?
За последнее время г-жа Бовари как-то особенно похорошела.
Она была красива той не поддающейся определению красотой, которую питают
радость, воодушевление, успех и которая, в сущности, есть не что иное, как
гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Вожделения, горести,
опыт в наслаждениях, вечно юные мечты – все это было так же необходимо для ее
постепенного душевного роста, как цветам необходимы удобрение, дождь, ветер и
солнце, и теперь она вдруг раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее
глаз был словно создан для влюбленных взглядов, во время которых ее зрачки
пропадали, тонкие ноздри раздувались от глубокого дыхания, а уголки полных губ,
затененных черным пушком, хорошо видным при свете, оттягивались кверху.
Казалось, опытный в искушениях художник укладывал завитки волос на ее затылке.
А когда прихоть тайной любви распускала ее волосы, они падали небрежно, тяжелой
волной. Голос и движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое
исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее ноги. Шарлю она представлялась
столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы.
Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее будить. От
фарфорового ночника на потолке дрожал световой круг, а в тени, у изножья
кровати, белой палаткой вздувался полог над колыбелью. Шарль смотрел на жену и
на дочку. Ему казалось, что он улавливает легкое дыхание девочки. Теперь она
будет расти не по дням, а по часам; каждое время года означит в ней
какую-нибудь перемену. Шарль представлял себе, как она с веселым личиком
возвращается под вечер из школы, платьице на ней выпачкано чернилами, на руке
она несет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион – это обойдется
недешево. Как быть? Шарль впадал в задумчивость. Он рассчитывал арендовать
где-нибудь поблизости небольшую ферму, с тем чтобы каждое утро по дороге к
больным присматривать за ней самому. Доход от нее он будет копить, деньги
положит в сберегательную кассу, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем
временем и пациентов у него прибавится. На это он особенно надеялся: ему
хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана, чтобы у нее появились способности,
чтобы она выучилась играть на фортепьяно. К пятнадцати годам это уже будет
писаная красавица, похожая на мать, и летом, когда обе наденут соломенные
шляпки с широкими полями, издали их станут принимать за сестер. Воображению
Шарля рисовалось, как Берта, сидя подле родителей, рукодельничает при лампе.
Она вышьет ему туфли, займется хозяйством, наполнит весь дом своей
жизнерадостностью и своим обаянием. Наконец, надо будет подумать об устройстве
ее судьбы. Они подыщут ей какого-нибудь славного малого, вполне обеспеченного,
она будет с ним счастлива – и уже навек.
Эмма не спала, она только притворялась спящей, и в то время,
как Шарль, лежа рядом с ней, засыпал, она бодрствовала в мечтах об ином.
Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неведомую
страну, откуда ни она, ни Родольф никогда не вернутся.
Они едут, едут молча, обнявшись. С высоты их взору внезапно
открывается чудный город с куполами, мостами, кораблями, лимонными рощами и
беломраморными соборами, увенчанными островерхими колокольнями, где аисты вьют
себе гнезда. Они едут шагом по неровной мостовой, и женщины в красных корсажах
предлагают им цветы. Гудят колокола, кричат мулы, звенят гитары, лепечут
фонтаны, и водяная пыль, разлетаясь от них во все стороны, освежает груды плодов,
сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, улыбающихся сквозь водометы. А
вечером они с Родольфом приезжают в рыбачий поселок, где вдоль прибрежных скал,
под окнами лачуг, сушатся на ветру бурые сети. Здесь они и будут жить; они
поселятся у моря, на самом краю залива, в низеньком домике с плоскою кровлей,
возле которого растет пальма. Будут кататься на лодке, качаться в гамаке, и для
них начнется жизнь легкая и свободная, как их шелковые одежды, теплая и
светлая, как тихие звездные ночи, что зачаруют их взор. В том безбрежном
будущем, которое она вызывала в своем воображении, ничто рельефно не
выделялось; все дни, одинаково упоительные, были похожи один на другой, как
волны, и этот бескрайний голубой, залитый солнцем, согласно звучащий простор
мерно колыхался на горизонте. Но в это время кашляла в колыбельке девочка или
же Бовари особенно громко всхрапывал – и Эмма засыпала лишь под утро, когда
стекла окон белели от света зари и Жюстен открывал в аптеке ставни.
Однажды она вызвала г-на Лере и сказала:
– Мне нужен плащ, длинный плащ на подкладке, с большим
воротником.
– Вы отправляетесь в путешествие? – осведомился
он.
– Нет, но... В общем, я рассчитываю на вас. Хорошо? Но
только поскорее!
Он поклонился.
– Еще мне нужен чемодан... – продолжала
она. – Не очень тяжелый... удобный.
– Так, так, понимаю. Приблизительно девяносто два на
пятьдесят, – сейчас делают такие.
– И спальный мешок.
«Должно быть, рассорились», – подумал Лере.
– Вот, – вынимая из-за пояса часики, сказала г-жа
Бовари, – возьмите в уплату.
Но купец заявил, что это напрасно: они же знают друг друга,
неужели он ей не поверит? Какая чепуха! Эмма, однако, настояла на том, чтобы он
взял хотя бы цепочку. Когда же Лере, сунув ее в карман, направился к выходу,
она окликнула его:
– Все это вы оставьте у себя. А плащ, – она
призадумалась, – плащ тоже не приносите. Вы только дайте мне адрес
портного и предупредите его, что плащ мне скоро может понадобиться.
Бежать они должны были в следующем месяце. Она поедет в Руан
будто бы за покупками. Родольф возьмет билеты, выправит паспорта и напишет в
Париж, чтобы ему заказали карету до Марселя, а в Марселе они купят коляску и
уже без пересадок поедут по Генуэзской дороге. Она заранее отошлет свой багаж к
Лере, оттуда его доставят прямо в «Ласточку», и таким образом ни у кого не
возникнет подозрений. Во всех этих планах отсутствовала Берта. Родольф не
решался заговорить о ней; Эмма, может быть, даже о ней и не думала.
Родольфу нужно было еще две недели, чтобы покончить с
делами. Через восемь дней он попросил отсрочки еще на две недели, потом
сказался больным, потом куда-то уехал. Так прошел август, и наконец, после всех
этих оттяжек, был назначен окончательный срок – понедельник четвертого
сентября.
Наступила суббота, канун кануна.
Вечером Родольф пришел раньше, чем обычно.
– Все готово? – спросила она.
– Да.
Они обошли клумбу и сели на закраину стены, над обрывом.
– Тебе грустно, – сказала Эмма.
– Нет, почему же?
А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно нежно.
– Это оттого, что ты уезжаешь, расстаешься со всем, к
чему привык, со всей своей прежней жизнью? – допытывалась Эмма. – Да,
да, я тебя понимаю... А вот у меня нет никаких привязанностей! Ты для меня все.
И я тоже буду для тебя всем – я заменю тебе семью, родину, буду заботиться,
буду любить тебя.
– Какая же ты прелесть! – сжимая ее в объятиях,
воскликнул он.
– Правда? – смеясь расслабленным смехом, спросила
она. – Ты меня любишь? Поклянись!
– Люблю ли я тебя! Люблю ли я тебя! Я тебя обожаю,
любовь моя!
На горизонте, за лугами, показалась круглая багровая луна.
Она всходила быстро; кое-где, точно рваный черный занавес, ее прикрывали ветви
тополей. Затем она, уже ослепительно-белая, озарила пустынный небосвод и,
замедлив свое течение, обронила в реку огромный блик, тотчас же засиявший в
воде мириадами звезд. Этот серебристый отблеск, точно безголовая змея, вся в
сверкающих чешуйках, извивался в зыбях вплоть до самого дна. Еще это было
похоже на гигантский канделябр, по которому стекали капли расплавленного
алмаза. Кругом простиралась тихая ночь. Листья деревьев были окутаны
покрывалами тени. Дул ветер, и Эмма, полузакрыв глаза, жадно вбирала в себя его
свежесть. Они были так поглощены своими думами, что не могли говорить. К сердцу
подступала былая нежность, многоводная и безмолвная, как река, что струилась там,
за оградой, томящая, как благоухание росшего в саду жасмина, и отбрасывала в их
памяти еще более длинные и еще более печальные тени, нежели те, что ложились от
неподвижных ив на траву. Порой шуршал листьями, выходя на охоту, какой-нибудь
ночной зверек: еж или ласка, а то вдруг в полной тишине падал созревший персик.
– Какая дивная ночь! – проговорил Родольф.
– У нас еще много будет таких! – подхватила Эмма и
заговорила как бы сама с собой: – Да, ехать нам будет хорошо... Но отчего же
все-таки у меня щемит сердце? Что это, боязнь неизвестности? Или оттого, что я
покидаю привычный уклад?.. Или... Нет, это от избытка счастья! Какая я
малодушная, правда? Прости меня!
– У тебя еще есть время! – воскликнул
Родольф. – Обдумай! А то как бы потом не раскаяться.
– Никогда! – горячо отозвалась Эмма и прильнула к
нему. – Ничего дурного со мной не может случиться. Раз я с тобой, то ни
пустыни, ни пропасти, ни океаны мне уже не страшны. Я так рисую себе нашу
совместную жизнь: это – объятие, которое день ото дня будет все теснее и
крепче! Нас ничто не смутит – ни препятствия, ни заботы! Мы будем одни,
совершенно одни, навсегда... Ну скажи мне что-нибудь, говори же!
Он отвечал ей время от времени: «Да... да...» Она теребила
его волосы, по щекам у нее катились крупные слезы, и она все повторяла с
какой-то детской интонацией:
– Родольф! Родольф!.. Ах, Родольф, милый, дорогой
Родольф!
Пробило полночь.
– Полночь! – сказала Эмма. – Наступило
завтра! Значит, еще один день!
Он встал, и, словно это его движение было сигналом к их бегству,
Эмма вдруг повеселела:
– Паспорта у тебя?
– Да.
– Ты ничего не забыл?
– Ничего.
– Наверное?
– Ну конечно!
– Итак, ты меня ждешь в отеле «Прованс»?.. В полдень?
Он кивнул головой.
– Ну, до завтра! – в последний раз поцеловав его,
сказала Эмма и потом еще долго смотрела ему вслед.
Родольф не оборачивался. Эмма побежала за ним и, раздвинув
кусты, наклонилась над водой.
– До завтра! – крикнула она.
Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу.
Через несколько минут Родольф остановился. И когда он
увидел, как она, в белом платье, медленно, словно призрак, скрывается во мраке,
у него сильно забилось сердце, и, чтобы не упасть, он прислонился к дереву.
– Какой же я дурак! – сказал он и скверно
выругался. – Ну ничего, любовница она была очаровательная!
И тут он представил себе всю красоту Эммы, все радости этой
любви. Сперва это его смягчило, но потом он взбунтовался.
– Чтобы я совсем уехал за границу! – размахивая
руками, громко заговорил он. – Да еще с младенцем, с этакой обузой!
Так он хотел окончательно укрепиться в своем решении.
– И потом возня, расходы... Нет, нет, ни за что на
свете! Это было бы глупее глупого!
|


