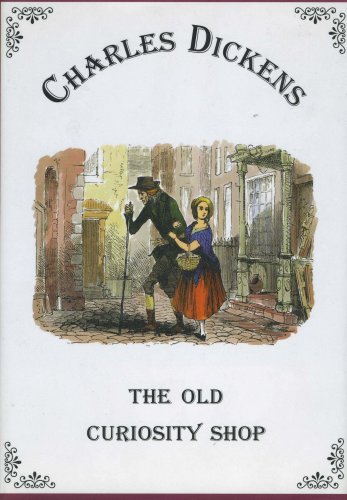
 Увеличить Увеличить |
Глава XLIV
Пешеходы
безостановочно шли по тротуарам двумя неистощимыми встречными потоками и, поглощенные
каждый сам собой, размышляли о своих делах, не обращая внимания ни на подводы и
фургоны, громыхающие железной кладью, ни на цоканье подков по скользкому
мокрому булыжнику, ни на шум дождя, барабанящего в оконные стекла и по
зонтикам, ни на бесцеремонные толчки, ни на гул и грохот людной улицы в самые
горячие часы дня. А двое бедных странников, ошеломленные этой лихорадочной
суетой, чувствовали свою полную непричастность к ней и, растерянно, тоскливо
глядя на людские толпы, томились таким одиночеством, которое можно сравнить
лишь с жаждой потерпевшего крушение моряка, когда он, подхваченный могучим
океанским валом, поводит воспаленными глазами, почти ослепшими от блеска
окружающей его со всех сторон воды, и тщетно мечтает о капле влаги, чтобы освежить
запекшиеся губы.
Они
спрятались от дождя под низкой аркой ворот и, стоя там, всматривались в лица,
мелькавшие мимо, в надежде поймать хоть на одном из них проблеск сочувствия и
внимания к себе. Прохожие кто хмурился, кто улыбался и бормотал что-то, кто жестикулировал
на ходу, точно готовясь к предстоящему важному свиданию; у некоторых на лице
так и было написано: пройдоха, — другие смотрели нетерпеливо, озабоченно
или вяло и тупо; вот этому, видать, сильно повезло, а у того сорвалось, не
выгорело. Незаметно приглядываться к этим людям со стороны было все равно, что
выслушивать от них самые сокровенные признания. В тех местах, где царит
оживление и суета, где каждый занят своим делом и с уверенностью может сказать
то же самое о других, характер и мысли человека ясно проступают в его чертах.
Но там, где просто гуляют, куда приходят людей посмотреть и себя показать, на
лицах мелькает одно и то же выражение, меняющееся лишь в оттенках. В деловые,
будничные часы человеческое лицо правдивее; и эта правда не нуждается в словах,
она говорит сама за себя.
Занятая
такими наблюдениями, которым особенно способствует чувство одиночества, девочка
продолжала с интересом всматриваться в прохожих, временами совершенно забывая о
своих горестях. Но дождь, холод, голод и желание хоть где-нибудь приклонить
отяжелевшую от усталости голову скоро вернули ее к прежним мыслям. Никто из
этих людей не замечал их, обратиться ей было не к кому. Подождав еще немного,
они вышли из своего убежища и смешались с толпой.
Наступил
вечер. Старик и девочка по-прежнему бродили по уже опустевшим улицам,
угнетаемые все тем же чувством одиночества и сознанием, что они никому не нужны
здесь. Фонари и освещенные окна лавок только усиливали эту тоску бесприютности,
ускоряя приход ночи и темноты. Дрожа от сырости и холода, девочка изнывала и
телом и душой, и ей нужно было все ее мужество, вся твердость духа лишь для
того, чтобы устоять на ногах.
Зачем
они пришли в этот шумный город с его мерзкой житейской борьбой, когда есть
столько тихих мирных мест, где даже голод и жажда были бы не так мучительны!
Они песчинки здесь, затерявшиеся в океане человеческого горя и нищеты, зрелище
которых заставляло их еще сильнее чувствовать свое отчаяние и свои муки.
В
придачу ко всем бедам Нелл приходилось теперь сносить и попреки деда,
начинавшего роптать, что его заставили покинуть надежное пристанище, и звавшего
ее вернуться назад. Денег у них не осталось, надежды на помощь не было никакой,
и они пошли по опустевшим улицам к реке, думая разыскать барочников и
попроситься к ним на ночлег. Но и тут их постигло разочарование — ворота
пристани были уже на запоре, и яростный лай собак заставил их повернуть
обратно.
— Придется
спать на улице, дедушка, — чуть слышно проговорила Нелл, когда и эта
надежда рухнула. — А завтра будем просить милостыню, доберемся с тобой до
какого-нибудь тихого местечка и там поищем работу.
— Зачем
ты завела меня сюда! — гневно воскликнул старик. — Мне душно на этих
нескончаемых улицах! Там, в тиши, было лучше. Зачем ты заставила меня уйти
оттуда!
— Затем,
чтобы тот сон больше не повторился, — твердым голосом ответила девочка и
тут же расплакалась. — Нам надо жить среди бедняков, не то он опять
приснится мне. Дедушка, милый, я знаю, ты старенький, слабый, но посмотри на
меня! Ведь мне тоже не легко, а разве я позволю себе хоть слово жалобы, если ты
будешь терпеть все молча!
— Бедная
моя, бездомная сиротка? — Старик сжал руки, словно впервые увидев перед
собой измученное лицо внучки, ее забрызганное грязью платье, опухшие от ходьбы
ноги. — Вот до чего я довел тебя! Неужели все мои старания тщетны? Неужели
я понапрасну лишился прежнего счастья и всего, что у меня было?
— Если
бы мы очутились сейчас где-нибудь за городом, далеко отсюда, — с
притворной веселостью заговорила Нелл, когда они снова побрели по улицам,
высматривая себе пристанище на ночь, — я уложила бы тебя под каким-нибудь
высоким старым деревом, и оно ласково раскинуло бы над нами свои зеленые ветви
и покачивалось и шелестело бы листвой, будто уговаривая нас уснуть, пока оно
будет сторожить наш сон и являться нам в сновидениях! Боже! Пусть это сбудется
завтра… Ну, хоть послезавтра! А сейчас, дедушка, не жалей, что я привела тебя
сюда. В этой толпе, в сутолоке мы скорее затеряемся, и если жестокие люди
вздумают разыскивать нас, они не найдут наших следов. Мы с тобой должны
радоваться этому. Смотри! Вот арка — там, правда, темно, но сухо, и ветром не
продует… Кто это?
Приглушенно
вскрикнув, Нелл отпрянула от человека, который вдруг выступил из-под темной
арки ворот, где они хотели спрятаться, и остановился, вглядываясь в них.
— Чей
это голос? — послышался вопрос. — Кто-нибудь знакомый?
— Нет, —
робко ответила девочка. — Мы совсем чужие в этом городе и хотели отдохнуть
тут, потому что у нас нет денег на ночлег.
Неподалеку
горел тусклый фонарь — единственный здесь, но его было достаточно, чтобы
осветить маленький квадратный дворик. Человек знаком подозвал туда старика и
девочку, и сам стал в полосе света, как бы давая этим понять, что ему незачем
прятаться, что у него нет ничего плохого в мыслях.
Одежда на
нем была убогая, разводы копоти подчеркивали бледность его лица, но он,
вероятно, никогда не мог похвалиться здоровьем, судя по обтянутым скулам,
заострившемуся носу, глубоко запавшим глазам и особенно по взгляду этих глаз —
спокойному, терпеливому. В его резком голосе не слышалось грубых ноток, а в
выражении сурового лица, обрамленного длинными черными волосами, не было ни
жестокости, ни злобы.
— Почему
же вам вздумалось ночевать именно здесь? — спросил он и добавил,
пристально посмотрев на девочку: — Вернее, почему вы так поздно спохватились о
ночлеге?
— Несчастья
преследуют нас, — ответил старик.
— А
разве вы не знаете, — продолжал незнакомец, еще внимательнее приглядевшись
к Нелл, — что она промокла до нитки? Ей нельзя оставаться на улице под
дождем.
— Знаю!
Видит бог, знаю! Но что мне делать! Незнакомец снова посмотрел на девочку и
осторожно коснулся ее платья, с которого струйками сбегала вода. — Я могу
предложить вам ночлег, — сказал он после минутного молчания. — Там
тепло, но больше ни на что не рассчитывайте. Сам я живу здесь, — он
показал в глубь двора, — но там, куда я вас поведу, девочке будет и
спокойнее и удобнее. Правда, место не бог весть какое уютное, но если вы
доверитесь мне, то проведете ночь у огня. Видите красный свет вон в той стороне?
Они
подняли глаза и увидели мрачное зарево на темном небе — отсвет полыхающего
где-то пламени.
— Это
недалеко. Ну, как, пойдете? Вы собирались спать на холодных камнях, а я
предлагаю вам постель из теплой золы — и только.
Не
дожидаясь другого ответа, кроме того, который можно было прочитать в их глазах,
он взял Нелли на руки и кивком головы пригласил старика следовать за собой.
Неся ее
легко и бережно, точно маленького ребенка, незнакомец свернул в самую бедную и
неприглядную часть города и твердой поступью пошел по улице, не замечая ни
переполненных канав, ни дождевых потоков, хлеставших из водосточных труб. Минут
двадцать они молча шли темными узкими переулками и уже потеряли из виду
отблески багрового пламени, как вдруг оно снова вспыхнуло перед ними, вырвавшись
из высокой трубы какого-то здания.
— Ну
вот, добрались, — сказал незнакомец, спуская Нелли с рук. — Не
бойтесь. Здесь вас никто не обидит.
Нужно
было слепо довериться ему, чтобы войти в эту дверь, а то, что они увидели за
ней, нисколько не уменьшило их опасений и страха. В огромном высоком корпусе с
чернеющими под потолком проемами для притока воздуха, с чугунными столбами,
поддерживающими крышу, стоял оглушительный стук молотов, рев горнов, шипенье в
воде раскаленного металла и множество других страшных, непонятных звуков,
которые нельзя было бы услышать ни в каком другом месте. И в этом аду, еле
различимые среди дыма и вспышек нестерпимо жаркого огня, словно великаны с
гигантскими кувалдами в руках, одного неверного удара которых было бы достаточно,
чтобы размозжить какому-нибудь неосторожному голову, работали люди. Другие,
лежа навзничь, лицом к зияющему черному своду, спали или просто отдыхали на
кучах углей и золы. Третьи распахивали раскаленные добела дверцы горнов и
бросали туда топливо, а огонь с гулом вырывался наружу и пожирал его, точно
масло. Четвертые сбрасывали на земляной пол листы громыхающего железа, которые
распространяли вокруг невыносимый жар и светились тем багровым светом, что
мерцает в глазах дикого зверя.
Мимо
этих страшных сцен, сквозь этот оглушительный грохот незнакомец провел старика
и девочку в темный угол, где печь топилась круглые сутки, — во всяком
случае, так они поняли по движению его губ, ибо самих слов разобрать не могли.
Человек, который следил за ней и работа которого на сегодня закончилась, с
радостью покинул свое место, а их новый друг разостлал плащ Нелли на куче золы,
показал ей, где высушить платье, и посоветовал им обоим ложиться спать. Сам же
он сел на истрепанную подстилку у печи и, подперев подбородок ладонями,
устремил глаза на пламя, игравшее в щелях дверцы, и на белую золу, сыпавшуюся
вниз, в свою раскаленную могилу.
Несмотря
на убогое, жесткое ложе, тепло и усталость приглушили в сознании девочки
немолчный шум, стоявший вокруг, и вскоре убаюкали ее. Старик лег рядом с ней,
и, обняв его за шею, она уснула.
Было еще
совсем темно, когда она открыла глаза, не зная, долго ли, коротко ли
продолжалось это сонное забытье. Кто-то прикрыл ее рабочей курткой от холодного
ветра, врывавшегося сюда с улицы, и от палящего жара печи. Их новый друг сидел
в той же позе, устремив застывший взгляд на огонь, — сидел совсем тихо,
будто и не дыша. Еще не очнувшись как следует, она долго глядела на эту
неподвижную фигуру и, наконец, испугавшись, не умер ли он, встала, нагнулась ж
самому его уху и негромко окликнула его.
Он
выпрямился и, точно не веря самому себе, перевел удивленный взгляд с лица
девочки на кучу золы, где она только что лежала, потом снова посмотрел на нее.
— Я
испугалась, не заболели ли вы, — сказала Нелл. — Ваши товарищи ни
минуты не постоят на месте, а вы все сидите и сидите.
— Они
знают мои привычки, — ответил он, — и не трогают меня. Иной раз
только посмеются, но беззлобно. Вот кто мой друг — видишь?
— Огонь? —
спросила Нелл.
— Да.
Я его как себя помню, — последовал ответ. — Мы с ним беседуем все
ночи напролет, и думы у нас одни и те же.
Девочка
бросила на него недоумевающий взгляд, но он отвернулся, уйдя в свои мысли, а
потом начал снова: — Это моя книга — единственная, которую я научился читать. И
сколько всего она рассказала мне! Это музыка, я узнаю ее голос среди тысячи
других, и поет он всегда по-разному. А если бы ты знала; сколько картин,
сколько лиц, сколько видений мелькает передо мной среди раскаленных углей!
Огонь все равно что моя память, — я гляжу на него и вижу всю свою жизнь.
Наклонившись
к своему новому другу, девочка заметила, как заблестели у него глаза, как
оживилось лицо, а он продолжал с легкой усмешкой: — Да! Я еще ребенком ползал
здесь и спал здесь. В те времена за ним, за огнем, присматривал мой отец.
— А
матери у вас тогда не было? — спросила Нелл.
— Нет,
ее давно схоронили. Женщинам трудно в наших местах. Она не вынесла непосильной
работы и умерла. Я узнал об этом позднее, от чужих людей, а с тех пор и огонь
твердит мне то же самое. Должно быть, так оно и было. Я ему верю.
— Вы
здесь и росли? — спросила девочка.
— Да,
зиму за зимой, лето за летом. Сначала отец держал меня при себе тайком, а потом
об этом узнали и все-таки позволили мне остаться. И огонь — вот этот самый
огонь был моей нянькой. Он никогда не угасает — горит и горит.
— Вы
любите его?
— Как
же мне его не любить! Перед этой печью умер мой отец. Упал у меня на глазах —
вот тут, где теперь тлеет зола… И помню, я думал, почему же огонь не поможет
ему?
— И
с тех пор вы все время при нем?
— Да,
с тех пор, как сам стал за ним присматривать. Было время — тяжелое, суровое для
меня время, — когда мы с ним расстались, но он не потухал эти годы. Потом
я снова пришел сюда, а он по-прежнему гудел и скакал из стороны в сторону, как
в те дни, когда у нас с ним были общие игры. Ты, верно, догадываешься, какое у
меня выдалось детство. И все-таки, хоть мы с тобой совсем разные, я тоже был
ребенком, и когда ты встретилась мне на улице ночью, я вспомнил себя после
смерти отца и решил привести вас сюда, к своему старому другу огню. А потом
увидел, как ты уснула возле него, и задумался над прошлым. Ложись, тебе надо
выспаться. Ложись, бедняжка, ложись.
С этими
словами он подвел Нелл к ее грубому ложу, укрыл той же одеждой, которую она
увидела на себе проснувшись, снова вернулся на прежнее место и снова замер, как
статуя, нарушая свою неподвижность лишь для того, чтобы подбросить угля в
топку. Девочка смотрела и смотрела на него, но потом поддалась одолевающей ее
дремоте и заснула на куче золы под этими мрачными темными сводами так же
сладко, как спят в дворцовых покоях на мягких пуховых перинах.
Когда
она снова открыла глаза, проемы под потолком уже посветлели, но в косых лучах
солнца, освещающих только верхнюю часть стен, все вокруг казалось еще сумрачнее,
чем ночью. Лязг и грохот оглушали по-прежнему, и горны все так же пылали
безжалостным огнем, ибо здесь мало что менялось со сменой дня и ночи.
Их новый
друг поделил с ними свой скудный завтрак — котелок мутного кофе и ломоть
черствого хлеба — и спросил, куда они пойдут дальше. Девочка ответила, что им
хотелось бы уйти куда-нибудь, где нет городов и даже больших деревень, и робко
спросила у него дорогу в эти места.
— Мне
почти не случается бывать за городом, — сказал он, покачивая
головой. — Ведь такие, как я, проводят всю свою жизнь перед дверцами
горнов и редко вырываются подышать свежим воздухом. Но хорошие, тихие места
где-то есть, я знаю.
— А
они далеко отсюда?
— Далеко,
очень далеко. Да разве деревья и трава могут расти и зеленеть близко от города?
Дорога туда идет мимо таких же огней, как наши, и тянется она на много, много
миль… Мрачная, черная дорога, тебе страшно будет идти по ней ночью.
— Все
равно мы уйдем отсюда! — смело сказала Нелл, видя, что дед с тревогой
прислушивается к их разговору.
— Народ
в наших местах грубый, путь впереди трудный, безрадостный, он не создан для
твоих слабых ножек. Неужели вам нельзя вернуться, дитя мое?
— Нет,
нельзя! — воскликнула Нелл, невольно шагнув вперед. — Если вы можете
помочь — помогите. Если же нет, не пытайтесь отговаривать меня. Вы не знаете,
какая нам грозит опасность и как хорошо мы делаем, что бежим от нее, а если бы
знали, то не решились бы удерживать нас.
— Не
буду, не буду, боже меня избави! — сказал их странный покровитель, глядя
то на нее, то на старика, который стоял, понуря голову и не поднимая глаз от
земли. — Я объясню тебе дорогу, как сумею, а больше, увы, ничем не могу
вам помочь.
Он начал
рассказывать, как им выбраться из города, как идти дальше, и пустился в такие
подробные объяснения, что девочка горячо прошептала: «Да благословит вас
бог», — и поспешила оставить его.
Но не
успели они дойти до угла, как он догнал их и сунул ей что-то в руку. Это были
две стертые, закопченные монеты, по пенсу каждая. И кто знает, может быть, на
взгляд ангелов они блестели так же ярко, как те драгоценные дары, о которых
горделиво повествуют эпитафии на могилах!
На углу
они расстались. Девочка взяла за руку своего бесценного питомца и повела его за
собой, уводя от позора и преступления, а кочегар вернулся назад читать новые
повести в огне, который стал теперь ему еще дороже, после того как эти
нежданные гости провели возле него одну короткую ночь.
|


