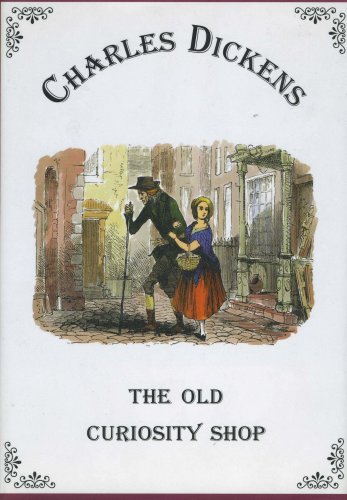
 Увеличить Увеличить |
Глава XII
Наконец
кризис миновал, и старик начал выздоравливать. Медленно, постепенно к нему возвращалась
и память, но разум его ослабел. Его ничто не раздражало, ничто не беспокоило.
Он мог часами сидеть в задумчивости, отнюдь не тягостной, и легко отвлекался от
нее, увидев зайчика на стене или потолке; не жаловался на длинные дни и
томительные ночи и, судя по всему, не испытывал ни тревог, ни скуки, утеряв
всякое представление о времени. Маленькая рука Нелл подолгу лежала в его руке,
и он то перебирал ее пальцы, то вдруг гладил по голове или целовал в лоб, а
заметив слезы у нее на глазах, озирался по сторонам, недоумевая, что же могло
огорчить внучку, и тут же забывал об этом.
Нелл
часто вывозила его на прогулки по городу; старик сидел в кэбе, обложенный
подушками, девочка рядом с ним; и как всегда — они были рука об руку. На первых
порах уличная сутолока и шум утомляли его, но он воспринимал все это
равнодушно, ничем не интересуясь, ничему не радуясь, не удивляясь. Когда внучка
показывала ему что-нибудь и спрашивала: «Помнишь ли ты это?», он отвечал: «Да,
да! Как же! Конечно, помню», — а потом вдруг вытягивал шею и долго смотрел
вслед какому-нибудь прохожему, но на вопрос, что его так заинтересовало, обычно
не отвечал ни слова.
Как-то
днем, когда они сидели у себя в комнате старик в кресле, Нелл на табуретке
возле него, — за дверью послышался мужской голос: просили разрешения войти; —
Войдите, — совершенно спокойно ответил старик. — Это Квилп. Теперь
Квилп здесь хозяин. Пусть войдет. И Квилп вошел.
— Очень
рад, любезнейший, видеть вас снова в добром здоровье, — начал карлик,
усаживаясь напротив него. — Ну, как вы себя чувствуете, хорошо?
— Да, —
чуть слышно ответил старик. — Да.
— Мне
не хочется вас торопить, любезнейший. — Карлик повысил голос, опасаясь,
что его не расслышат. — Но чем скорее вы устроитесь где-нибудь, тем лучше.
— Правильно, —
сказал старик. — Это для всех лучше — и для вас и для нас.
— Дело
в том, — продолжал Квилп после небольшой паузы, — что, когда отсюда
все вывезут, какое же вам здесь будет житье, в пустом доме?
— Да,
это верно, — согласился старик. — А Нелл! Ей-то, бедняжке, каково бы
пришлось!
— Вот
именно! — во весь голос рявкнул карлик и закивал головой. —
Совершенно справедливое замечание. Так вы об этом подумаете, любезнейший?
— Да,
непременно, — ответил старик. — Мы здесь не останемся.
— Я
сам так предполагал, — сказал карлик. — Имущество ваше продано. Выручил
я за него гораздо меньше, чем рассчитывал, но все же достаточно, вполне
достаточно. Сегодня у нас вторник. Так когда же будем вывозить? Торопиться
некуда… может, сегодня днем?
— Лучше
в пятницу утром.
— Прекрасно, —
сказал карлик. — Так и порешим, но только с одним условием, любезнейший, —
больше не откладывать ни под каким видом.
— Хорошо.
В пятницу. Я запомню.
Мистера
Квилпа озадачил этот странный, как будто совершенно безучастный тон, но
поскольку старик, кивнув, повторил еще раз: «Я запомню. В пятницу утром», у
него не было никаких оснований задерживаться здесь, и он простился, не скупясь
на сердечные излияния и комплименты по поводу прекрасного вида своего
любезнейшего друга, после чего отправился вниз — сообщить мистеру Брассу о
только что состоявшихся переговорах.
И этот
день и весь следующий старик провел как во сне. Он бродил по дому, заглядывал
то в одну, то в другую комнату, словно прощаясь с ними, но ни единым словом не
касался ни своего утреннего разговора с карликом, ни того, что теперь им надо
подыскивать себе какое-то новое пристанище. Смутная мысль все же маячила где-то
в глубине его сознания: внучка несчастна, о ней надо позаботиться. И он нет-нет
да прижимал ее к груди и утешал, говоря, что они всегда будут неразлучны. Но
отдать себе ясный отчет в том, каково их положение, он, видимо, не мог и
проявлял все ту же безучастность и апатию, которые оставил в нем недуг,
поразивший не только его тело, но и разум.
Мы
говорим про таких людей, что они впали в детство, но это все равно, что сравнивать
смерть со сном. Какое неуместное уподобление! Кто видел в тусклых глазах
слабоумных стариков светлый, жизнерадостный блеск, веселье, не знающее удержу,
искренность, не боящуюся холодной острастки, неувядающую надежду, мимолетную
улыбку счастья? Кто находил в застывших безобразных чертах смерти безмятежную
красоту сна, который вознаграждает нас за прожитый день и сулит мечты и любовь
дню грядущему? Сличите смерть со сном — и кто из вас сочтет их близнецами?
Посмотрите на ребенка и слабоумного старика и постыдитесь порочить самую
светлую пору нашей жизни сравнением с тем, в чем нет ни малейшей прелести, ни
малейшей гармонии.
Наступил
четверг; с утра старик был все такой же вялый, но вечером, когда они с Нелли
молча сидели у себя, в нем произошла какая-то перемена.
В
маленьком дворике, куда выходило их окошко, росло дерево — довольно зеленое и
ветвистое для такого унылого места, — и листья его, трепеща на ветру,
отбрасывали зыбкую тень на белые стены комнаты. Старик смотрел на ее кружевной
узор до самого захода солнца. Наступил вечер, на небо медленно выплыла луна, а
он все сидел и сидел у окошка.
Ему,
протомившемуся столько дней в постели, приятно было видеть и эти зеленые листья
и этот спокойный свет — правда, льющийся из-за крыш и дымовых труб. Они наводили
на мысли о тихом местечке где-нибудь далеко-далеко отсюда, на мысли об отдыхе и
покое.
Девочка
чувствовала, что в душе старика что-то происходит, и боялась нарушить молчание.
Но вот слезы полились у него из глаз — слезы, при виде которых ей сразу полегчало, —
и он взмолился: — Прости меня!
— Простить?
Зa что? — воскликнула Нелл, не давая ему упасть перед собой на
колени. — Дедушка, за что я должна тебя простить?
— 3а
все что было, за все, что ты выстрадала, Нелл! За все, что я сделал, когда мною
владел этот дурной сон!
— Не
надо! — сказала она. — Прошу тебя, не надо! Давай лучше поговорим о
чем-нибудь другом.
— Да,
лучше о другом… О том, о чем мы говорили давным-давно… несколько месяцев назад…
месяцев, или недель, или дней?.. Когда это было, Нелл?
— Я
не понимаю тебя, дедушка.
— Сегодня
мне все вспомнилось, и я сидел тут с тобой и думал. Да благословит тебя за это
господь, Нелл!
— Дедушка,
милый, за что?
— За
твои слова в тот день, когда на нас обрушилась нищета, Нелл. Только давай
говорить тихо! Тес! Если Эти люди там, внизу, услышат нас, они скажут, что я
лишился разума, и тебя отнимут у меня, Нелл! Мы больше не останемся здесь, ни
одного дня. Мы уйдем далеко-далеко!
— Да,
уйдем отсюда! — твердо сказала девочка. — Оставим этот дом и никогда
больше не вернемся сюда, никогда больше не вспомним о нем. Лучше исходить
босиком весь мир, чем жить здесь!
— Да,
да! — воскликнул старик. — Мы будем странствовать по полям и лесам,
по берегам рек — там, где незримо обитает господь, и положимся во всем на его
волю! Лучше ночевать под открытым небом, — вон оно посмотри, какое
чистое! — чем задыхаться в душных комнатах, в плену забот и тяжелых
сновидений. Мы с тобой еще узнаем радость и счастье, Нелл, и забудем прошлое,
словно его и не было.
— Мы
еще узнаем счастье! — повторила девочка. — Но только не здесь!
— Да,
только не здесь… только не здесь, это верно! — согласился старик. —
Давай уйдем завтра утром, пораньше, так чтобы никто нас не увидел, никто не
услышал… уйдем и никому не скажем куда, не оставим никаких следов. Бедняжка
моя, Нелл! Какая ты бледная! Сколько слез пролили твои глаза, сколько ты
провела бессонных ночей — и все из-за меня! Да, да! Из-за меня! Но подожди! Мы
уйдем отсюда, и ты снова оживешь, снова повеселеешь. Завтра утром, родная, чуть
свет, мы покинем эти печальные места и будем свободны и счастливы, как птицы.
И старик
сомкнул руки над ее головой и проговорил срывающимся голосом, что отныне они
всегда будут вместе и не разлучатся до тех пор, пока смерть не у несет одного
из них.
Сердце
девочки загорелось надеждой и верой. Мысли о холоде, голоде, жажде и страданиях
не тревожили ее.
Она
видела впереди только тихие радости, конец тягостному одиночеству, избавление
от бессердечных людей, омрачавших своим присутствием и без того тяжелую для нее
пору, надеялась на то, что к старику снова вернется здоровье и душевный покой и
жизнь их снова будет полна безмятежного счастья. Солнце, ручейки, луга, летние
дни — вот что рисовалось ее воображению, и ни одного темного пятна не было на
этой радужной картине!
Старик уснул
крепким сном, а она занялась приготовлениями к побегу: уложила в корзинку
одежду для себя и для деда, взяв на дорогу что похуже — как им, бездомным
странникам, и подобало теперь. Не забыла и палку — подспорье для старческих
ног. Но это было не все, — оставалось еще в последний раз обойти дом.
Как
непохоже оказалось это прощание на то, которое она ждала и так часто рисовала
себе мысленно! Да и можно ли было думать, что эта минута принесет ей чувство
торжества! Разве воспоминание о прошлых днях пусть печальных и одиноких — не
переполнило теперь до краев ее сердце, укоряя его в черствости! Она села к
окну, где провела столько вечеров, гораздо более мрачных, чем
сегодняшний, — и все былые надежды, все мимолетные радости, посещавшие ее
здесь, ожили сами собой, мгновенно стерев и былую тоску и былую печаль.
А
маленькая каморка, где она так часто молилась по ночам, призывая в своих
молитвах то счастье, которое, кажется, забрезжило сейчас! Ее маленькая каморка,
где она так мирно спала и видела такие светлые сны! Как тяжело, что туда нельзя
даже зайти, нельзя окинуть ее признательным взглядом и поплакать на прощанье.
Там остались кое-какие вещи — жалкие безделушки, но ей так хотелось бы взять их
с собой! Увы! Теперь это невозможно!
И тут
она вспомнила свою птичку и залилась горькими слезами; но вдруг, сама не зная
почему, решила, что ее бедная любимица обязательно попадет к Киту, а он
сбережет ее ради своей бывшей хозяйки и, может, будет думать, что она нарочно
оставила ему такой подарок в знак благодарности. Эта мысль успокоила, утешила
ее, и она пошла спать, не чувствуя прежней тяжести на сердце.
Ей
снилось, как они с дедом бродят по прекрасным, залитым солнцем полям, но все
эти сновидения пронизывала смутная тоска по чему-то недостижимому, и она
проснулась среди ночи когда звезды еще поблескивали в небе. Наконец занялось
утро, звезды потускнели и угасли одна за другой. Убедившись, что день близок,
девочка поднялась и оделась в дорогу.
Она
решила не беспокоить старика раньше времени и разбудила его в последнюю минуту,
но он собрался быстро — так ему хотелось поскорее уйти из этого дома.
Рука об
руку они осторожно спускались по лестнице, замирая от страха, когда ступеньки
скрипели у них под ногами, останавливаясь на каждом шагу и прислушиваясь. Но
вдруг старик хватился забытой котомки, куда была сложена его легкая поклажа, за
ней пришлось вернуться, и эти две-три минуты задержки показались им
нескончаемыми.
Наконец
они ступили в коридор в нижнем этаже, где уже слышалось страшное, как львиный
рык, храпенье мистера Квилпа и его ученого друга. Ржавые засовы заскрежетали,
несмотря на все предосторожности, но когда Нелл отодвинула их, дверь оказалась
запертой и, что всего хуже, ключа в замке не было. И тут она вспомнила, как
одна из сиделок говорила ей, что Квилп сам запирает на ночь и переднюю и заднюю
дверь, а ключи кладет на стол в спальне.
Немало
волнений и страха пришлось испытать девочке, когда она, скинув туфли и тенью проскользнув
через комнату, загроможденную антикварными вещами, среди которых самым чудовищным
экземпляром был спящий на тюфяке мистер Брасс, вошла в свою маленькую спальню.
Увидев
мистера Квилпа, она в ужасе замерла на пороге. Карлик спал, так низко
свесившись с кровати, что казалось, будто он стоит на голове. Зубы у него были
оскалены — то ли по свойственной ему милой привычке, то ли от неестественного
положения, — в горле что-то клокотало и булькало, из-под приоткрытых век
виднелись белки (вернее, мутные желтки) глаз, заведенных под самый лоб. Но у
Нелли не было времени справляться о его самочувствии, и, окинув комнату беглым
взглядом, она схватила со стола ключ, миновала распростертого на полу мистера
Брасса и благополучно вернулась к деду.
Они
бесшумно отперли дверь, вышли на улицу и остановились.
— Куда? —
спросила девочка.
Старик
бросил нерешительный, беспомощный взгляд сначала на нее, потом по сторонам,
потом снова на нее и покачал головой. Было ясно, что наступила минута, когда
его вожатым и его советчицей должна стать она. И, сразу почувствовав это,
девочка не испугалась, не усомнилась в себе, а протянула ему руку и бережно
повела прочь от дома.
Было
раннее июньское утро. Синева неба не омрачалась ни единым облачком, и оно сияло
ослепительным светом. Прохожие на улицах встречались редко, дома и лавки были
еще закрыты, и благотворный утренний ветерок веял над спящим городом словно
дыхание ангелов.
Старик и
девочка шли сквозь эту блаженную тишину, полные радости и надежд. Одни, снова
одни! Все вокруг — такое чистое, свежее — только по контрасту напоминало им
гнетущее однообразие жизни, оставшейся позади. Колокольни и шпили, такие темные
и хмурые в другое время дня, сейчас искрились и светились на солнце; невзрачные
улицы и закоулки ликовали в его лучах, а небосвод, таявший в немыслимой высоте,
слал свою безмятежную улыбку всему, что расстилалось под ним.
Все
дальше и дальше, стремясь скорее выбраться из погруженного в дремоту города,
уходили двое бедных странников — уходили, сами не зная, куда лежит их путь.
|


