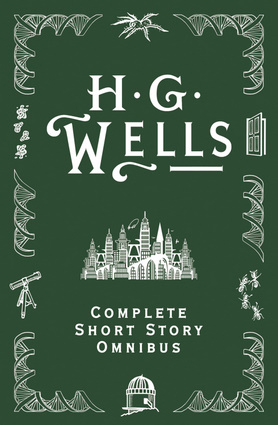
 Увеличить Увеличить |
Размышления о дешевизне и тетушка Шарлотта
Пер. - Р.Померанцева
Мир
совершенствуется. В дни моей юности, как многие из вас еще помнят, люди чтили
красное дерево и почему-то предпочитали всякой другой мебели эти блестящие
громады, удивительно похожие цветом на сырую печенку и такие тяжелые, что не
сдвинешь. Те из нас, кто был слишком беден для красного дерева,
притворялись, что имеют его, придавая своей мебели воспаленный оттенок с
помощью фанеровки. Это заставило кое-кого решить, что все дело тут было в
цвете. В те времена бытовало словечко "ничтожный", ныне почти
забытое. Милая тетушка Шарлотта прибегала к этому эпитету, когда
по-своему, по-женски, бранила ей неугодных. "Ничтожный",
"пустой", "поддельный" было, по ее мнению, наихудшим, что
можно сказать о человеке. Еще, помнится, она питала крайнее отвращение к
накладному серебру и бронзовым полупенсам. Полупенсы ее юности
представляли собой массивные диски из красной меди, к которым совсем не
подходило слово "мелочь". То были красивые и увесистые монеты,
почти столь же неудобные в обращении, как кроны. Помню, как однажды в
детстве она поправила меня.
- Не
называй пенни медью, деточка, - сказала она. - Медь - это металл, а нынешние
пенсы, они бронзовые.
Удивительно, до чего живучи наши детские представления. Я по сей день считаю
бронзу неким втирушей среди металлов, ничтожным выскочкой. Все в доме
тетушки-Шарлотты было поразительно добротным и, за малым исключением, страшно
неудобным; здесь не было вещи, которую мальчик мог бы разбить, не подвергшись
за то анафеме. Только ее сервиз не лишен был прелести - по крайней мере
другого я ничего не помню, - и каждая из этих заветных тарелок
действительно стоила ее бесконечных восторгов. Меня водили в дорогих
костюмчиках, доставлявших мне такие же муки, как Геркулесу его туника,
омоченная в крови Несса [Несс - кентавр, поверженный Геркулесом; жена
Геркулеса - Деянира омочила в крови Несса тунику мужа, чтобы вернуть его
любовь, но кровь кентавра оказалась ядом]. Я слишком рано узнал цену
добротным вещам. Узнал, скольких сердитых взглядов стоит каждая чайная
чашка, и по гроб жизни возненавидел все дорогое. Самому мне любы дешевые и
никчемные вещи, зауряднейший хлам, какой только можно получить за деньги,
что-нибудь банальное, как примула, и недолговечное, как первый снег.
Подумайте сами, насколько дешевые и - если угодно - плохие вещи
предпочтительней их дорогостоящих подмен. Допустим, вам надо что-то
купить. "Только бери, что получше, - советует тетя Шарлотта, - такое, чтоб
дольше служило". Вы следуете ее совету, и вещь служит веки вечные и
становится семейным проклятием. Кому не известны эти донельзя скучные
Добротные вещи, скучные, как верные жены, и столь же исполненные
самодовольства? У тетушки Шарлотты за всю жизнь, наверно, не было ни одной
новой вещи. Мебель красного дерева перешла к ней от дядюшки, а сервиз - от
каких-то далеких предков. А ее постели, ее перины!.. Их посещали призраки.
Лучшая из кроватей видела столько смертей, рождений и браков, что могла
поведать историю трех поколений нашей семьи. Что-то в этом доме навевало
мысль о кладбище, и не только потому, что спинки стульев походили
очертаниями на могильные плиты. Моя память сохранила мрачные закоулки
этого дома, его темные, как в склепе, углы, пышные драпировки, скрывавшие
окна. Наша жизнь была чересчур буднична для подобной обстановки. Тетушка
Шарлотта не догадывалась, что все это ее подавляло, а меж тем оно так и
было. Этим и объяснялся, по-моему, ее душевный склад - ее мрачный
кальвинизм, ощущение ничтожества и бренности всего земного. Утверждение,
будто вещи являются принадлежностью нашей жизни, было пустыми словами. Это мы
были их принадлежностью, мы заботились о них какое-то время и уходили со
сцены. Они нас изнашивали, а потом бросали. Мы менялись, как декорации, они
действовали в спектакле от начала и до конца. То же самое было и с одеждой.
Мы схоронили вторую сестру моей матери - тетушку Аделаиду, - поплакали и
почти позабыли о ней, а ее великолепные шелковые платья, несмотря на свое
сиротство, по-прежнему весело шуршали в нашем эфемерном мире.
Все
это еще в раннем детстве противоречило моему представлению о жизни и об относительной
ценности вещей. Я хочу иметь свои вещи; вещи, которые можно разбить, не
разбив себе сердце, и, поскольку мы живем только раз, я ищу перемен - чтоб
сперва было это, а потом то. Ценность старых и добротных вещей тети
Шарлотты я узнал, лишь когда продавал их. За них дали на редкость много - за
эти каменные стулья, как жернова, перемалывавшие людей; за этот хрупкий
фарфор, доставлявший бесконечные тревоги до тех самых пор, пока чары его не
разлетелись с ним вместе; за серебряные ложки, по милости коих тетя Шарлотта
пятьдесят шесть лет кряду мучилась мыслью о взломщиках; за кровать, которую из
всей родни пережил я один; за чудесные старинные часы - рослые, плечистые, с
серебряным ликом.
Но,
как я уже говорил, наши вкусы меняются - ушло в вечность красное дерево и
репсовые гардины. Вещи теперь служат человеку, а прежде человека с детства
учили служить вещам. Нынче я сам связующее звено между прошлым и будущим. Вещи,
как весенние цветы, появляются и вновь исчезают. "Кто украдет мои
часы, получит ерунду", - как говорил один поэт; они сделаны из бог весть
какого металла и, если их день продержать на каминной полке, покрываются
сплошным красновато-черным налетом, который очень меня веселит.
Мальчиком я понял, что когда-нибудь надену дедушкину шляпу. Теперь у меня
шляпа за десять шиллингов, а то и дешевле, и я меняю ее два или три раза в
году. В прежние времена платье брали себе почти так же навечно, как
жену. Наше нынешнее жилище полно разными блестящими предметами; повсюду
легковесные креслица, прочные лишь настолько, чтобы не развалиться под вами;
книги в ярких обложках; ковры, на которые вы спокойно можете бросить
зажженную спичку. Вы не боитесь здесь что-нибудь поцарапать, опрокинуть кофе,
разбросать по углам пепел. Уж ваша мебель не станет чваниться перед гостями.
Она знает свое место.
Но
особенно хороши дешевые вещи с точки зрения декоративности. Если что и выдавало
в моей тетушке любовь к красоте, так это милый ее сердцу старый цветник, хотя
даже тут она остается у меня под подозрением. Ее любимыми цветами были
тюльпаны - эти накрахмаленные гордецы в малиновых прожилках. Полевые цветы
она презирала. Драгоценности ее походили на выставку благородных
металлов. Знай она стоимость платины, она б только ее и носила. Цепи,
кольца и броши тети Шарлотты приобретались на вес. Она б отвернулась от
работы Бенвенуто Челлини, если бы в вещи было менее двадцати двух
каратов. Акварель она презирала; картина в ее глазах должна была
представлять собою огромное, писанное маслом бурое полотно
какого-нибудь Старого Мастера. В углу столовой в усадьбе Бэббиджей стояла
горка с хвастливо сияющей позолоченной посудой; ее огораживал плюшевый
шнур, не позволявший посетителям толком рассмотреть чеканку: они лишь
узнавали стоимость и шли дальше. Я не держу в доме богато разукрашенного
искусства. По мне, прелесть искусства составляют такие необъяснимые вещи, как
идеи, мастерство и талант. На фартинг краски и бумаги - и перед вами шедевр,
как это делают японцы. Не беда, если он упадет в огонь. Он исчезнет,
как вчерашний закат, - завтра будет новый.
Японцы - истинные апостолы дешевизны. Греки жили, чтоб научить людей
красоте, иудеи - нравственности, но вот явились японцы и принялись
вдалбливать нам, что человек может быть честным, его жизнь - приятной, а
народ - великим без домов из песчаника, мраморных каминов и буфетов
красного дерева. Порой мне ужасно хотелось, чтоб тетушка Шарлотта пожила
среди японцев. Она, конечно, обозвала бы их "горсткой ничтожеств".
То, что у них столь употребима бумага и они носят бумажное платье и
пользуются бумажными платками, преисполнило бы ее бесконечного презрения к ним.
Как я ни старался, я не мог представить себе тетю Шарлотту в бумажном белье.
Она питала истинную ненависть к бумаге. Ее молитвенник был напечатан на шелку,
все книги переплетены в кожу и не так для красоты, как для прочности
вправлены в металлический кант. Настоящее ее место было в древнем Вавилоне -
сей основательный народ высекал на камне даже газеты. Я мысленно
сравнивал ее с той царевной, которая носила одеяние из кованого золота.
Мальчиком я считал, что скелет у нее из красного дерева. Но как бы там ни
было, старушки уж нет, и к тому же она оставила мне свою мебель. Наверно, она
перевернулась в гробу, когда я принялся распродавать ее имущество. Даже
семейный фарфор понемногу исчез. Негодуя за дурное отношение к ее слишком
фундаментальным вещам, тетка вечно наказывала меня, запирала в чулане,
сажала на хлеб и воду, давала непосильные задания, и я, признаться,
низко отметил ей за это. Если будете в Уокинге, вы убедитесь в этом
собственными глазами. На могиле ее стоит простой легкий крест. Он кажется
белым пятнышком между двух безобразных гранитных пресс-папье, которыми
придавлены лежащие справа и слева. Временами я готов в этом раскаяться.
Как я посмотрю ей в лицо на том свете: я ведь так ее оскорбил!
1898
|


