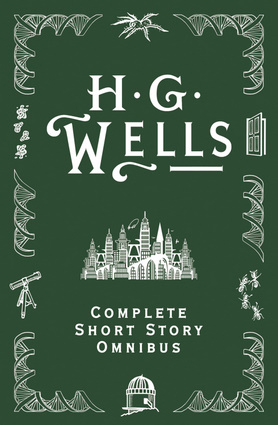
 Увеличить Увеличить |
Остров Эпиорниса
Перевод Н. Надеждиной
Человек со шрамом на лице перегнулся через стол и посмотрел на мои цветы.
-
Орхидеи? -спросил он.
-
Всего несколько штук, - ответил я.
-
Венерины башмачки?
- В
основном.
-
Что-нибудь новенькое? Хотя вряд ли. Я обследовал эти острова двадцать
пять - нет, двадцать семь лет назад. Если вы найдете здесь кое-что новое -
значит, это уж совсем новехонькое. После меня не осталось почти ничего.
- Я
не коллекционер.
-
Тогда я был молод, - продолжал он. - Господи! Сколько я гонял по свету! -
Он как бы присматривался ко мне. - Два года пробыл в Индии, семь лет в
Бразилии. Потом поехал на Мадагаскар.
-
Нескольких исследователей я знаю понаслышке. - Я уже предвкушал интересную
историю. - Для кого вы собирали образцы?
-
Для Доусона. Может вам доводилось слыхать такую фамилию - Бутчер?
-
Бутчер, Бутчер?.. - Эта фамилия смутно казалась мне знакомой; потом я
вспомнил: "Бутчер против Доусона". - Постойте! Так это вы
судились с ними, требуя жалованье за четыре года - за то время, что
пробыли на пустынном острове, где вас бросили одного?
-
Ваш покорный слуга, - кланяясь, сказал человек со шрамом. - Занятное судебное
дело, правда? Я сколотил себе там небольшое состояньице, пальцем о палец не
ударив, а они никак не могли меня уволить. Я часто забавлялся этой мыслью,
пока оставался на острове. И даже вел подсчеты, вырисовывая огромные
цифры на песке чертова атолла.
-
Как же это случилось? Я уже забыл подробности дела...
-
Видите ли... Вы слыхали когда-нибудь об эпиорнисе?
-
Конечно. Эндрюс как раз работает над его новой разновидностью; он
рассказывал мне о ней примерно месяц назад. Перед самым моим отплытием. Они
раздобыли берцовую кость чуть ли не с ярд длиной. Ну и чудовище это было!
-
Охотно верю, - сказал человек со шрамом. - Настоящее чудовище.
Легендарная птица Рух Синдбада-морехода безусловно принадлежала к этому
семейству. И когда же они нашли эти кости?
-
Года три-четыре назад - кажется, в девяносто первом году. А почему вас это
интересует?
-
Почему? Потому что их нашел я - да, да, почти двадцать лет назад. Если б у
Доусона не заупрямились с моим жалованьем, они могли бы поднять здоровую
шумиху вокруг этих костей. Но что я мог поделать, если проклятую лодку унесло
течением...
Он
помолчал.
-
Это, наверно, то же самое место. Нечто вроде болота, в девяноста милях к
северу от Антананариво. Не слыхали? К нему надо добираться вдоль берега, на
лодке. Может, вы случайно помните?
-
Нет. Но, кажется, Эндрюс говорил что-то о болоте.
-
Очевидно, о том же самом. На восточном берегу.
Там
в воде, уж не знаю откуда, есть какие-то вещества, предохраняющие от
разложения. Пахнет словно креозотом. Сразу вспоминается Тринидад. А яйца они
нашли? Мне попадались яйца в полтора фута величиной. Болото образует круг,
понимаете, и это место совершенно отрезано. Помимо всего, там много соли.
Да-а... Не легко мне пришлось в то время! А нашел я все это совсем случайно.
Я взял с собой двух туземцев и отправился за яйцами в этаком нелепом
каноэ, связанном из кусков; тогда же мы нашли и кости. Мы прихватили
с собой палатку и провизии на четыре дня и расположились там, где грунт
потверже. Вот сейчас вспомнилось мне все, и сразу почудился тот странный,
отдающий дегтем запах. Занятная была работа. Понимаете, надо шарить в
грязи железными прутьями. Яйца при этом обычно разбиваются. Интересно,
сколько лет прошло с тех пор, как жили эпиорнисы? Миссионеры утверждают,
что в туземных легендах говорится о временах, когда такие птицы жили, но сам я
рассказов о них не слыхал [насколько известно, ни один европеец не
видел живого эпиорниса, за малоправдоподобным исключением Мак-Эндрью,
который побывал на Мадагаскаре в 1745 г. (Прим. авт.)]. Однако те яйца.
которые мы достали, были совершенно свежие. Да, свежие! Когда мы тащили их к
лодке, один из моих негров уронил яйцо, и оно разбилось о камень. Ох, и
отлупил же я парня! Яйцо было ничуть не испорченное, словно птица только что
снесла его, даже не пахло ничем, а ведь эта птица, может быть, уже четыреста
лет как сдохла. Негр оправдывался тем, что его будто бы укусила сколопендра.
Впрочем, я уклонился в сторону. Целый день мы копались в этой грязи, стараясь
вынуть яйца неповрежденными, вымазались с ног до головы в противной
черной жиже, и вполне понятно, что я разозлился. Насколько мне было
известно, это единственный случай, когда яйца достали совершенно целыми, без
малейшей трещинки. Я смотрел потом те, что хранятся в Музее естественной
истории, в Лондоне; все они надтреснутые, куски скорлупы слеплены вместе,
как мозаика, и некоторых кусочков не хватает. А мои были безукоризненными, и
я собирался по возвращении выдуть их. Ничего удивительного, что меня взяла
досада, когда этот идиот погубил результат трехчасовой работы из-за какой-то
сколопендры. Здорово ему досталось от меня!
Человек со шрамом вынул из кармана глиняную трубку. Я положил перед ним свой
кисет с табаком. Он задумчиво набил трубку, не глядя на нее.
- А
другие яйца? Довезли вы их до дома? Никак не могу припомнить...
-
Вот это-то и есть самое необыкновенное в моей истории. У меня было еще три
яйца. Абсолютно свежих. Мы положили их в лодку, а потом я пошел к палатке,
варить кофе; оба мои язычника остались на берегу - один возился со своим
укусом, а другой помогал ему. Мне и в голову не могло прийти, что эти негодяи
воспользуются моим положением, чтобы устроить мне пакость. Видимо, один из них
совсем одурел от яда сколопендры и от моей взбучки - он вообще был довольно
строптивый - и сманил другого.
Помню, я сидел, курил, кипятил воду на спиртовке, которую всегда брал с собой
в экспедиции, и любовался болотом, освещенным заходящим солнцем. Болото все
было в черных и кроваво-красных полосах - очень красиво. Дальше к горизонту
местность повышалась и переходила в подернутые серой дымкой холмы, над которыми
небо полыхало, словно жерло печи. А в пяти-десяти шагах от меня, за моей
спиной, чертовы язычники, равнодушные ко всему этому покою, сговаривались
угнать лодку и бросить меня одного, с трехдневным запасом провизии,
холщовой палаткой и без питья, если не считать воды в маленьком бочонке. Я
услыхал, как они вдруг завопили, смотрю, а они уже в этом своем каноэ -
настоящей лодкой его и не назовешь - шагах в двадцати от берега. Я сразу
смекнул, в чем дело. Ружье у меня осталось в палатке, и патронов, вдобавок,
не было, - только мелкая дробь. Негры это знали. Но у меня в кармане лежал
еще маленький револьвер; я его вытащил на ходу, когда побежал к берегу.
"Назад!" - крикнул я, размахивая револьвером. Они о чем-то
залопотали между собой, и тот, который разбил яйцо, ухмыльнулся. Я
прицелился в другого - поскольку он был здоров и греб, - но промазал. Они
засмеялись. Однако я не считал себя побежденным. Нужно сохранять хладнокровие,
подумал я, и выстрелил вторично. Пуля прожужжала так близко от гребца, что он
даже подскочил. Тут уж он не смеялся. В третий раз я попал ему в голову, и
он полетел за борт вместе с веслом. Для револьверного выстрела здорово метко.
Между мной и каноэ было, по-моему, ярдов пятьдесят. Негр сразу скрылся под
водой. Не знаю, застрелил я его или он был просто оглушен и утонул. Тогда я
стал орать и требовать, чтобы второй негр вернулся, но он съежился в комок на
дне челнока и не желал отвечать. Пришлось мне выпустить в него и
остальные заряды, но все мимо.
Должен вам признаться, что положение мое было совершенно дурацким. Я остался
один на атом гиблом берегу, позади меня - болото, впереди - океан,
похолодавший после захода солнца, а эту черную лодчонку неуклонно уносит
течением в открытое море. Ну и проклинал же я доусоновскую фирму, и
джэмраковскую, и музеи, и все прочее - и совершенно справедливо! Я звал
этого негра обратно, пока у меня не сорвался голос.
Мне
не оставалось ничего другого, как поплыть за ним вдогонку, рискуя встретиться
с акулами. Я раскрыл складной нож, взял его в зубы и разделся. Как только я
вошел в воду, я сразу потерял из виду каноэ, но плыл я, по-видимому,
наперерез ему. Я надеялся, что негр ранен и не в состоянии управлять рулем
и что его суденышко будет относить все в том же направлении. Вскоре
челнок показался на горизонте, примерно к юго-западу от меня. Закат уже
потускнел, стали надвигаться сумерки. В синеве неба проглянули звезды. Я
плыл, как заправский чемпион, хотя ноги и руки у меня скоро заныли.
Все-таки я догнал каноэ, к тому времени как звезды усыпали все небо. Когда
стемнело, в воде появилось множество каких-то светящихся точек - ну, эта самая
фосфоресценция. Порою у меня даже кружилась от нее голова. Я не мог
разобрать, где звезды и где фосфоресценция, и как я плыву - вверх головой
или вверх ногами. Каноэ было черным, как смертный грех, а рябь на воде под
ним - как жидкое пламя. Я, конечно, немного побаивался залезать на борт. Надо
было сначала узнать, что там задумал этот негр. Он лежал, свернувшись
клубком, на носу, а корма вся поднялась над водой. Лодка медленно
вертелась - будто вальсировала. Я схватился за корму и потянул ее вниз, думая,
что негр проснется. Затем я вскарабкался на борт с ножом в руке, готовый
броситься вперед. Но негр даже не шелохнулся. Так я и остался на корме,
маленького каноэ, а течением несло его в спокойное
фосфоресцирующее море; над головой была сплошные звезды, а я сидел и ждал, что
будет дальше.
Много времени прошло, прежде чем я окликнул негра по имени. Он ничего не
ответил. Я сам настолько устал, что боялся подойти к нему ближе. Так мы и
сидели. Кажется, я раза два вздремнул. Когда рассвело, я увидел, что он уже
давно мертв и весь распух и посинел. Три яйца эпиорниса и кости лежали
посередине челнока, в ногах у мертвеца - бочонок с водой, немного кофе и
сухарей, завернутых в номер кэйпского "Аргуса", а под телом -
жестянка с метиловым спиртом. Весла не было, и вообще ничего, что можно
было бы использовать вместо весла, если не считать этой жестянки; и я
решил дрейфовать, пока меня не подберут. Обследовав тело, я поставил
диагноз: укус неизвестной змеи, скорпиона или сколопендры, и выкинул негра за
борт.
После этого я попил воды, поел сухарей, а затем осмотрелся вокруг. Когда
человек ослабевает так, как я ослабел тогда, он, вероятно, не может видеть на
далеком расстоянии; во всяком случае, я не замечал не только Мадагаскара,
но и вообще какой-либо земли. Я разглядел лишь удалявшийся к юго-западу
парус, очевидно, какой-то шхуны, но само судно так и не показалось.
Вскоре солнце уже поднялось высоко на небе и начало меня припекать. Ну и
жгло! У меня чуть мозги не сварились. Я пробовал окунать голову в море, а
потом мне попался на глаза кэйпский "Аргус"; я вытянулся плашмя на
дне каноэ и накрылся газетным листом. Замечательная вещь - газета! До
того времени я никогда не прочитывал их полностью, но, удивительное
дело, - когда человек остается один, он способен дойти бог весть до чего.
Я перечел этот окаянный старый "Аргус", кажется, раз двадцать.
Смола, которой было обмазано каноэ, так и курилась от жары и вздувалась
большими пузырями.
-
Течение носило меня десять, - продолжал человек со шрамом. - Когда
рассказываешь, выходит, будто это пустяк, верно? Каждый день был похож на
предыдущий. Наблюдать за морем я мог только утром и вечером, - такой был
вокруг нестерпимый блеск. После первого паруса я три дня не видал ничего, а
потом с тех судов, которые я успевал заметить, не видели меня. Примерно на
шестой вечер мимо проплыл корабль на расстоянии меньше полумили; на нем
ярко горели огни, иллюминаторы были открыты - он был точно большой светляк. На
палубе играла музыка. Я вскочил на ноги, кричал и вопил ему вслед... На второй
день я продырявил одно из яиц эпиорниса, по кусочкам очистил с одного
конца от скорлупы и попробовал его; к счастью, оно оказалось съедобным.
Яйцо немножко припахивало, - не испорчено было, нет, - но по вкусу
напоминало утиное. На одной стороне желтка было нечто вроде круглого пятна,
около шести дюймов в диаметре - с кровяными прожилками и белым рубцом
лесенкой; пятно показалось мне странным, но в то время я еще не понял, что
это значит, да и не собирался быть особенно разборчивым. Яйца мне хватило на
три дня, с сухарями и водой из бочонка. Кроме того, я жевал кофейные зерна -
как укрепляющее. Второе яйцо я вскрыл примерно на восьмой день и - испугался.
Человек со шрамом умолк.
-
Да, - сказал он, - в нем был зародыш.
Вам, вероятно, трудно этому поверить. Но я поверил, ведь я видел
собственными глазами. Это яйцо, погруженное в холодную черную грязь,
пролежало в ней лет триста. Тем не менее ошибиться было невозможно. Там
оказался... как его?.. эмбрион, с большой головой и выгнутой спиной; в нем
билось сердце, желток весь ссохся, а внутри скорлупы тянулись длинные
перепонки, которые покрывали и желток. Получилось, что я, плавая в
маленьком каноэ по Индийскому океану, высиживал яйца самой большой из
вымерших птиц. Если б старик Доусон это знал! Такое дело стоило жалованья за
четыре года. Как, по-вашему, а?
Но
еще до того, как показался риф, мне пришлось съесть эту
драгоценность до последней крошки, и черт знает, до чего это была противная
еда! Третье яйцо я не трогал. Я просматривал его на свет, но при такой
плотной скорлупе трудно было разобрать, что творится внутри; и хотя мне
казалось, будто я слышу биение пульса, может быть, у меня просто шумело в
ушах, как бывает, когда приложишь к уху морскую раковину.
Затем показался атолл. Выплыл вместе с восходящим солнцем, неожиданно, совсем
рядом. Меня несло прямо к нему до тех пор, пока до берега не осталось
меньше полумили, а затем течение вдруг свернуло в сторону, и мне пришлось
грести изо всех сил руками и кусками скорлупы эпиорниса, чтобы попасть на
остров. И все-таки я добрался до него. Это был самый обыкновенный
атолл, около четырех миль в окружности; на нем росло несколько деревьев,
сочился родник, а лагуна так и кишела рыбой, главным образом губанами. Я
отнес яйцо на берег, выбрав для него подходящее место, - достаточно далеко
от границы прилива и на солнце, чтобы создать для него самые лучшие условия;
затем втащил на берег каноэ, целое и невредимое, и отправился осматривать
окрестности. Удивительно, до чего тоскливы эти атоллы! Как только я нашел
родник, у меня пропал всякий интерес к острову. В детстве мне казалось, что
ничто не может быть лучше и увлекательнее, чем жить Робинзоном, но мой атолл
был скучен, как сборник проповедей. Я ходил вокруг него, разыскивая
что-нибудь съедобное и предаваясь раздумью; но еще задолго до того, как
кончился этот первый день, меня уже одолела тоска. А ведь мне очень повезло -
едва я высадился на сушу, погода переменилась. Над морем, по направлению к
северу, пронеслась гроза, захватив своим краем остров; ночью пошел
проливной дождь и поднялся ветер, который выл и крутил все вокруг. Каноэ
ничего не стоило бы перевернуться, это ясно.
Я
спал под каноэ, а яйцо, к счастью, лежало в песке, подальше от берега.
Первое, что я тогда услыхал, был грохот, такой, словно на доски обрушился
град камней; меня всего обдало водой. Перед этим мне снилось Антананариво,
и я сел и стал звать Интоши, чтобы узнать у нее какого черта там шумят; я
протянул было руку к стулу, на котором обычно лежали спички, и тут только вспомнил,
где я. Фосфоресцирующие волны катились прямо на меня, словно собираясь меня
поглотить, кругом было темно, как в аду. В воздухе стоял сплошной рев. Тучи
висели над самой моей головой, а дождь лил так, будто небо начало тонуть и
кто-то вычерпывал воду, выливая ее за край небосвода. Ко мне приближался
огромный вал, извивающийся как разъяренная змея, и я пустился бежать. Затем
я вспомнил о лодке, и как только вода с шипеньем отхлынула, помчался к ней,
но она уже исчезла. Тогда я решил посмотреть, цело ли яйцо и ощупью
добрался до него. Оно было в безопасности, самые ярые волны не могли бы
докатиться туда; я уселся рядом с ним и обнял его, как приятеля. Ну и ночка
это была, господи боже ты мой!
Шторм улегся еще до утра. Когда рассвело, от туч уже нe оставалось ни клочка,
а по всему берегу были разбросаны обломки досок, так сказать, скелет
моего каноэ. Но мне хоть нашлась какая-то работа. Я выбрал два дерева,
росших рядом, и соорудил между ними из останков лодки нечто вроде шалаша для
защиты от штормов. И в этот день вылупился птенец.
Вылупился, сэр, в то время, как я спал, положив голову на яйцо, как на подушку!
Я услыхал сильный стук, меня тряхнуло, и я сел, - кончик яйца был пробит, и
оттуда выглядывала забавная коричневая головка.
"Господи! - сказал я. - Добро пожаловать!"
Птенец поднатужился и вылез наружу.
Он
оказался славным, дружелюбным малышом, величиной с небольшую курицу,
очень похожим на любых других птенцов, только крупнее. Вначале его оперение
было грязно-бурым, с какими-то серыми струпьями, которые вскоре отвалились,
и редкими перышками, пушистыми, как мех. Трудно передать мою радость при
виде его. Робинзон Крузо и тот не был так одинок, как я, уверяю вас. А тут у
меня появилась преинтересная компания. Птенец смотрел на меня и мигал,
закатывая веки кверху, как курица, затем чирикнул и сразу начал клевать
песок, как будто вылупиться с опозданием в триста лет было для него сущей
безделицей.
"Привет, Пятница!" - сказал я; еще в каноэ, увидав, что в
яйце развивается зародыш, я уже решил: если птенец вылупится, конечно, он
будет зваться Пятницей. Меня немножко беспокоило, чем я его буду кормить, и
я сразу дал ему кусок сырого губана. Он проглотил его и снова разинул клюв.
Это меня обрадовало, - ведь если бы он, при подобных обстоятельствах,
оказался чересчур разборчивым, мне пришлись бы в конце концов съесть его
самого.
Вы
не можете себе представить, каким занятным был этот птенец эпиорниса. С
самого начала он не отходил от меня ни на шаг. Обычно он стоял рядом и смотрел,
как я ужу рыбу в лагуне; я делился с ним всем, что вылавливал. И к тому
же он был умницей. На берегу, в песке, попадались какие-то противные
зеленые бородавчатые штучки, похожие на маринованные корнишоны; он
попробовал проглотить одну из них, и ему стало худо. Больше он на них даже и
не глядел.
И
он рос. Рос чуть ли не на глазах. А так как я никогда не был особенно общительным,
его спокойная дружелюбная натура вполне устраивала меня. Почти два года мы
были так счастливы, как только это возможно на подобном острове. Зная,
что мне накапливается у Доусона жалованье, я откинул все деловые заботы.
Временами мы видели парус, однако ни одно суденышко не приблизилось к
нашему острову. Я развлекался тем, что украшал атолл узорами из морских ежей и
различных причудливых раковин и кругом по берегу выложил камнями:
"Остров Эпиорниса", - очень аккуратно, большими буквами, как
делают из цветных камешков у нас на родине, возле железнодорожных
станций; кроме того, я разместил там математические вычисления и разные
рисунки. Иногда я лежал и смотрел, как эта птичка важно выступает около меня и
все растет, растет; если меня когда-нибудь снимут отсюда, думал я. вполне
можно будет заработать на жизнь, демонстрируя мою птицу. После первой линьки
она стала красивой - с хохолком и голубой бородкой и пышными зелеными
перьями в хвосте. Я все ломал себе голову, имеет Доусон право претендовать
на нее или нет. Во время шторма или в период дождей мы уютно лежали в
шалаше, построенном из остатков каноэ, и я рассказывал Пятнице всякие небылицы
про своих друзей на родине. А после шторма мы вместе обходили остров,
проверяя, не выкинуло ли чего-нибудь на берег. Словом - идиллия. Если бы еще
немного табачку, ну просто была бы райская жизнь.
Но
к концу второго года что-то стало не ладиться в нашем маленьком раю. Пятница
достиг тогда примерно четырнадцати футов в вышину; у него была большая, широкая
голова, по форме как конец кирки, и огромные коричневые глаза с желтым
ободком, посаженные не по-куриному - с двух сторон, а по-человечьи -
близко друг к другу. Оперение у него было красивое: не полутраурное, как
у всяких страусов, а скорее, по цвету и фактуре, как у казуара. И вот он
начал топорщить гребешок при виде меня. и важничать, и проявлять признаки
скверного характера.
А
затем однажды, когда рыбная ловля оказалась довольно неудачной, моя птица
стала ходить за мной с каким-то странным, задумчивым видом. Я думал, что,
может быть, она наелась морских огурцов или еще чего-нибудь такого, но это она
просто показывала мне свое недовольство. Я тоже был голоден и, когда,
наконец, вытащил рыбу, хотел съесть ее сам. В то утро мы оба были не в духе.
Она клюнула губана и схватила его, а я стал гнать ее прочь и стукнул по
голове. Тут она и накинулась на меня. Боже!
-
Она начала с этого. - Человек со шрамом показал на свое лицо. - Потом
стала лягаться. Лягаться, как ломовая лошадь! Я вскочил и, видя, что она не
унимается, помчался что есть мочи, прикрыв обеими руками лицо. Но эта
проклятая птица, несмотря на неуклюжие ноги, бежала быстрее скаковой лошади,
и все молотила меня ногами, и долбила своей киркой по затылку. Я понесся к
лагуне и забрался в воду по самую шею. Птица остановилась на берегу,
потому что не любила мочить лапы, и начала пронзительно кричат, как павлин, только
более хрипло, а потом принялась расхаживать по берегу взад да вперед. Сказать
по правде, довольно-таки унизительно было видеть, как это ископаемое
чувствует себя хозяином положения. С головы и лица у меня стекала кровь, а
тело - тело было все в синяках.
Я
решил переплыть через лагуну и ненадолго оставить свою птицу одну, чтобы она
утихомирилась. Потом я залез на самую высокую пальму и стал все это
обдумывать. Кажется, в жизни я не был еще так оскорблен. Такая черная
неблагодарность! Я был для нее ближе родного брата. Высидел ее, воспитал.
Этакую большую, неуклюжую, допотопную птицу! Я - человек, царь природы и
тому подобное.
Я
думал, что через некоторое время она сама это поймет и устыдится. Я думал, что
если мне удастся поймать вкусных рыбок и я как бы случайно подойду и
угощу ее, она образумится. Прошло немало времени, пока я узнал, какой
мстительной и сварливой может быть вымершая порода птиц. Воплощенное
коварство!
Не
буду рассказывать обо всех уловках, которые я применял, чтобы снова заставить
птицу слушаться. Я просто не в состоянии: даже и теперь сгораю со стыда, когда
вспомню, как пренебрежительно обращалась со мной и как избивала меня эта
музейная диковинка! Я пробовал применить силу и стал бросать в нее кусками
коралла - с безопасного расстояния, но она только проглатывала их. Потом я
попробовал швырнуть в нее раскрытым ножом и чуть не расстался с ним, хотя
он был слишком велик, чтобы она могла его проглотить. Пытался я взять
ее измором и перестал удить рыбу, но она научилась отыскивать на берегу,
после отлива, червяков, и ей этого хватало. Половину времени я проводил, стоя
по шею в лагуне, а другую половину - наверху, на пальмах. Однажды пальма
оказалась недостаточно высокой, и когда моя птица настигла меня там, ну и
полакомилась она моими икрами! Положение стало совершенно невыносимым. Не
знаю, пробовали ли вы когда-нибудь спать на пальме. У меня были ужаснейшие
кошмары. И какой позор, к тому же! Эта вымершая тварь бродит по моему
острову с надутым видом, словно герцогиня, а я не имею права ступить ногой на
землю. Я даже плакал от усталости и досады. Я прямо заявил ей, что не
позволю такому дурацкому анахронизму гоняться за мной по пустынному острову.
Пусть разыскивает какого-нибудь мореплавателя своей собственной эпохи и клюет
его, сколько вздумается. Но она только щелкала клювом, завидя меня. Этакая
огромная уродина, одни ноги и шея!
Сколько все это тянулось, даже не хочется говорить. Я убил бы ее раньше,
да не умел. В конце концов я все же сообразил, как мне ее прикончить.
Так ловят птиц в Южной Америке. Я соединил все свои рыболовные лесы, связав их
стеблями водорослей и другими штуками, и сделал крепкий канат, ярдов в
двенадцать, даже больше; к каждому его концу я привязал по куску коралла. На
это у меня ушло довольно много времени, потому что постоянно приходилось
то влезать в лагуну, то забираться на дерево - смотря по обстоятельствам. Затем
я быстро развертел этот канат в воздухе, над головой, и запустил им в
птицу. В первый раз я промахнулся, но во второй раз канат ловко обвился
вокруг ее ног и опутал их. Она упала. Я бросал канат, стоя по пояс в
лагуне, и как только птица свалилась на землю, выскочил из воды и
перепилил ей горло ножом...
Мне
даже теперь неприятно об этом вспоминать. В ту минуту я чувствовал себя
убийцей, хотя во мне все так и кипело от злости. Я стоял над ней и видел,
как ее кровь текла на белый песок, как ее могучие длинные ноги и шея дергались
в агонии... Ах, да что там!..
После этой трагедии одиночество нависло надо мной, как проклятье. Боже мой, вы
даже представить себе не можете, как мне не хватало моей птицы. Я сидел около
ее тела и горевал; меня пробирала дрожь, когда я оглядывал свой унылый риф, на
котором царило полное безмолвие. Я думал о том, каким славным птенцом
был этот эпиорнис, когда вылупился, и какие симпатичные, забавные повадки
были у моего Пятницы, пока он не взбесился. Кто знает - если б я его только
ранил, я, вероятно, сумел бы, выходив его, привить ему дружеские чувства. Если
бы у меня была какая-нибудь возможность вырыть яму в коралловой скале, я
похоронил бы его. Мне казалось, что я расстался с человеком, а не с птицей.
Съесть ее я, конечно, не мог бы и поэтому опустил в лагуну, где рыбки начисто
ее обглодали. Я даже не оставил себе перьев. А потом какому-то типу,
путешествовавшему на яхте, в один прекрасный день вздумалось поглядеть,
существует ли еще мой атолл.
Он
явился как раз вовремя, потому что мне стало так тошно на этом пустынном
острове, что я только не мог решить, зайти ли мне просто подальше в море и там
покончить со всеми земными делами или поесть зеленых штучек...
Я
продал кости человеку по имени Уинслоу, торговавшему поблизости от
Британского музея, а он, по его словам, перепродал их старику Хэверсу.
Хэверс, видимо, не знал, что они исключительно велики. Поэтому они
привлекли к себе внимание только после его смерти. Птице дали имя...
эпиорнис... как это дальше, вы не помните?
-
Epyornis Vastus, - сказал я. - Забавное совпадение, ведь именно об этих
костях упоминал один мой приятель. Когда был найден скелет эпиорниса с берцовой
костью длиной в один ярд, считалось, что это уже верхушка шкалы - Epyornis
Maximus. Потом кто-то раздобыл другую берцовую кость в четыре фута шесть дюймов
или больше, и она получила название Epyornis Fitan. Затем, после смерти
старика Хэверса, в его коллекции нашли ваш Vastus, а потом нашелся
Vastissimus.
-
Уинслоу так и говорил мне, - сказал человек со шрамом. - Если найдутся
еще новые эпиорнисы, он думает, что какую-нибудь ученую шишку хватит удар.
А все-таки странные истории случаются с людьми, правда?
1894
|


