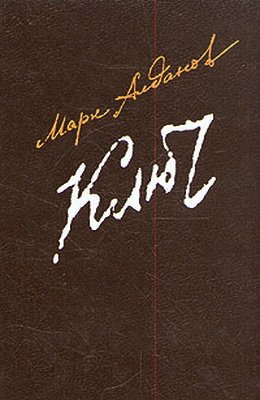
 Увеличить Увеличить |
VII
В этот поздний час в здании суда уже было пустовато и
скучно. Не снимая шубы, не спрашивая о следователе, стараясь не обращать на
себя внимание, Федосьев поднялся по лестнице и столкнулся с Кременецким,
который выходил из коридора с Фоминым, оживленно с ним разговаривая. Семен
Исидорович значительно толкнул в бок Фомина и раскланялся с Федосьевым – они
были знакомы по разным ходатайствам Кременецкого за подзащитных. Фомин тоже с
достоинством поклонился, оглядываясь по сторонам. Столкнулись они так близко,
что Семен Исидорович счел недостаточным ограничиться поклоном. Знакомство с
Федосьевым было и лестное, и вместе чуть‑чуть неудобное. Его знали все
выдающиеся адвокаты; близкое знакомство с ним было бы невозможным, однако
совершенно не знать Федосьева тоже было бы неприятно Семену Исидоровичу.
– В наших палестинах? – подняв с улыбкой брови,
спросил Кременецкий, не говоря ни «вы», ни «ваше превосходительство», как он не
говорил ни «вы», ни «ты» своему кучеру. Семен Исидорович, впрочем, тотчас
пожалел, что употребил слова «наши Палестины» – в связи с его еврейским
происхождением они могли подать повод к шутке.
– Как видите… Ведь кабинет прокурора палаты там,
дальше?
– Прямо, прямо, вон там…
– Благодарю вас… Мое почтение, – сказал, учтиво
кланяясь, Федосьев и направился в указанном ему направлении.
– Говорят, конченый мужчина, – радостно заметил
вполголоса Семен Исидорович. – Может теперь на воды ехать, мемуары писать.
– Il est fichu![44] Я
из верного источника знаю: мне вчера вечером сообщили у графини Геденбург… Elle
est bien rensejgnée[45], –
сказал Фомин; при виде сановника он как‑то бессознательно заговорил по‑французски.
– А все‑таки, что ни говори, выдающийся человек.
– Ma foi, oui… Еще бы, – перевел Фомин, вспомнив,
что Сема не любит его французских словечек.
– Я очень рад, что эта клика останется без него. Все
мыслящее вздохнет свободнее…
– Ваше превосходительство ко мне по делу Фишера? –
спросил Яценко, с некоторой тревогой встретивший нежданного гостя.
– Да, по этому делу… Вы разрешите курить? –
спросил Федосьев, зажигая спичку.
– Сделайте одолжение. – Яценко пододвинул
пепельницу. – Должен, однако, сказать вашему превосходительству, что со
вчерашнего дня это дело меня больше не касается. Следствие закончено, и я уже
отослал производство товарищу прокурора Артамонову.
Федосьев, не закурив, опустил руку с зажженной спичкой.
– Вот как? Уже отослали? – с досадой в голосе
спросил он. – Я думал, вы меня предупредите.
– Отослал, – повторил сухо Яценко, сразу
раздражившись от предположения, что он должен был предупредить
Федосьева. – Последний допрос обвиняемого дал возможность установить
весьма важный факт: связь Загряцкого с госпожой Фишер. Загряцкий сам признался
в этой связи, и очная ставка, можно сказать, подтвердила его признание. Вашему
превосходительству, конечно, ясно значение этого факта? Без него обвинение
висело в воздухе, теперь оно стоит твердо.
– Стоит твердо? – неопределенным тоном повторил
Федосьев.
– Так точно. – Николай Петрович помолчал. –
Признаюсь, мне и прежде были неясны мотивы того интереса, который ваше
превосходительство проявляли к этому делу. Во всяком случае, теперь, если вы
продолжаете им интересоваться, вам надлежит обратиться к товарищу прокурора
Артамонову.
– Что ж, так и придется сделать, – сказал
Федосьев. – Очень жаль, конечно, что я несколько опоздал, теперь
формальности будут сложнее.
– Формальности? – переспросил с недоумением
Яценко.
– Формальности по освобождению Загряцкого из этого
тяжелого дела, – сказал медленно Федосьев, заботливо стряхивая пепел с
папиросы. – Я вынужден вам сообщить, Николай Петрович, что с самого начала
следствие ваше направилось по ложному пути. Загряцкий невиновен в том
преступлении, которое вы ему приписываете.
– Это меня весьма удивило бы! – сказал Яценко, Его
вдруг охватило волнение. – Я желал бы узнать, на чем основаны ваши слова.
Федосьев, по‑прежнему не глядя на Николая Петровича,
втягивал дым папиросы.
– Полагаю, ваше превосходительство, я имею право вас об
этом спросить.
– В том, что вы имеете право меня об этом спросить, не
может быть никакого сомнения. Гораздо более сомнительно, имею ли я право вам
ответить. Однако при всем желании я другого выхода не вижу… Да, Николай
Петрович, вы ошиблись. Загряцкий не убивал Фишера и не мог его убить, потому
что в момент убийства он находился з другом месте… Он находился у меня.
Наступило молчание. Яценко, бледнея, смотрел в упор на
Федосьева.
– Как прикажете понимать ваши слова?
– Вы, вероятно, догадываетесь, как их надо понимать. Их
надо понимать так, что Загряцкий – наш агент, Николай Петрович. Агент, приставленный
к Фишеру по моему распоряжению.
Снова настало молчание.
– Почему же ваше превосходительство только теперь об
этом сообщаете следствию? – повысив голос, спросил Яценко.
Федосьев развел руками.
– Как же я мог вам об этом сказать? Ведь это значило не
только провалить агента, это значило погубить человека. Вы отлично знаете,
Николай Петрович, что огласка той секретной службы, на которой находится
Загряцкий, у нас равносильна гражданской смерти. Лучшее доказательство то, что
он сам, несмотря на тяготевшее над ним страшное обвинение, не счел возможным
сказать вам, где он был в вечер убийства. Не счел возможным сказать, откуда он
брал средства к жизни… Разумеется, это вещь поразительная, что у нас люди
предпочитают предстать перед судом по обвинению в тяжком уголовном
преступлении, чем сознаться в службе государству на таком посту… Это будет
памятником эпохи, – со злобой сказал он. – Но это так, что ж делать?
– Ваше превосходительство, разрешите вам заметить, что
интересы этого господина, служащего, как вы изволили сказать, государству, не
могут иметь никакого значения сравнительно с интересами правосудия!
– Пусть так, но принципы, которыми руководятся люди,
управляющие государством, имеют некоторое значение. Мы воспитаны на том, что
выдачи сотрудников быть не может.* А вы, как следователь, не имели бы
возможности, да, пожалуй, и права хранить в секрете роль Загряцкого. Ну,
человек пять вы уж непременно должны были бы посвятить в это дело. А какой же
секрет, если о нем будут знать пять добрых петербуржцев? Это все равно что в
агентство «Рейтер» передать… Нет, я до последней минуты не мог ничего вам
сказать, Николай Петрович. Я ведь рассчитывал, что в силу естественной логики
вещей невиновного человека следствие и признает невиновным. Но вышло не так…
Опять скажу: что ж делать! Бывает такое стечение обстоятельств. Оно бывает даже
чаще, чем я думал, хоть, поверьте, я никогда не обольщался насчет разумности
этой естественной логики вещей…
[46]
Яценко встал и прошелся по комнате. Он был очень бледен.
«Нет, я ничем не виноват, – подумал Николай Петрович, – мне стыдиться
нечего!..»
– Я остаюсь при своем мнении относительно действий
вашего превосходительства, – сказал он, останавливаясь, (Федосьев снова
слегка развел руками.) – Но прежде всего я желаю выяснить факты. Значит, в
вечер убийства Загряцкий находился у вас, в вашем учреждении?
Федосьев улыбнулся не то наивности следователя, не то его
тону.
– Со мной, но не в моем учреждении, – ответил он,
подчеркивая последнее слово. – С секретными сотрудниками я встречаюсь на
так называемой конспиративной квартире. Они ко мне ходить не могут, это азбука.
– По каким причинам вы приставили к Фишеру агента?
– Я не буду входить в подробности… Впрочем, я сообщил
вам при первом же нашем разговоре, почему я считал себя обязанным следить за
Фишером… Он вдобавок, как вы догадываетесь, не единственный человек в России,
находящийся у меня на учете.
– Значит, и письма госпожи Фишер к мужу Загряцкий читал
по предписанию вашего превосходительства?
Федосьев посмотрел на следователя.
– Я предписываю установить наблюдение за тем или другим
лицом, и только. Техника этого наблюдения лежит на ответственности агента и его
непосредственного начальства, меня она не касается… Загряцкий мог и
переусердствовать.
– Да… Вот как… – сказал Яценко. Он вернулся к столу и
снова сел в кресло. Волнение его все усиливалось. – Кто же убил
Фишера? – вдруг негромко, почти растерянно спросил он.
– Этого я не могу знать.
– Однако вы заинтересовались ведь этим делом не только
для того, чтобы выгородить вашего агента?.. Да, ведь вы тогда меня спрашивали,
оставил ли завещание Фишер, – сказал, вспомнив, Яценко. Он вдруг потерял
самообладание. – Ваше превосходительство, я решительно требую, чтобы вы
перестали играть со мной в прятки! Я прямо вас спрашиваю и прошу мне так же прямо
ответить: вы полагаете, что в деле этом есть политические элементы?
– Это одно из возможных объяснений, – помолчав,
ответил Федосьев. – Но уверенности у меня никакой не было и нет… Я
действительно предполагал, что Фишер мог быть убит революционерами.
– Революционерами? – с изумлением переспросил
Яценко. – Какими революционерами?.. Зачем революционерам было убивать
Фишера?
– Затем, чтобы состояние убитого досталось его дочери,
которая, как вы знаете, связана с революционным движением.
Яценко продолжал на него смотреть, вытаращив глаза.
– Позвольте, ваше превосходительство, – сказал
он. – Можно думать что угодно о наших революционерах, я и сам не грешу к
ним симпатиями, но когда же они делали такие вещи? Убить человека, чтоб
завладеть его состоянием!.. Ваше подозрение совершенно неправдоподобно! –
сказал он решительно.
– Я, напротив, думаю, что оно вполне
правдоподобно, – холодно ответил Федосьев. – И позволю себе добавить,
что мое мнение имеет в настоящем случае больше веса, чем ваше или даже чем
мнение всей нашей либеральной интеллигенции, как‑никак я посвятил этому делу
всю свою жизнь. Вы спрашиваете: когда же революционеры делали такие вещи? Я
отвечаю: за ними значатся гораздо худшие. Известно ли вам дело о наследстве
Шмидта? Известны ли вам дела террористов в Польше? О кровавой субботе не
слышали? Об экспроприации на Эриванской площади? О лбовской организации?.. Я
вам вкратце напомню…
Он заговорил, входя в подробности зверств, убийств,
грабежей. Яценко смотрел на него сначала с недоумением, потом с некоторой
тревогой.
– …А Горинович, которого облил серной кислотой один из
их самых уважаемых, иконописных вождей? А анархист‑террорист Шпиндлер, прежде
обыкновенный вор и грабитель, удостоенный сочувственного некролога в их идейных
изданиях? А тот – как его? – что переоделся в офицерскую форму и оскорбил
действием германского консула: нужно было, видите ли, чтобы к консулу выехал с
извинениями генерал‑губернатор, которого они по дороге собирались убить? А
кишиневская группа «мстителей»? А дондангенские «лесные братья»? А московская
«Свободная коммуна»? Не помните? Разрешите напомнить…
Обычно холодный и бесстрастный, Федосьев говорил
возбужденно, увлекаясь все больше, точно этот счет чужих преступлений, это
мрачное свидетельство жестокости людей, с которыми он вел борьбу, доставляли
ему наслаждение. Он все валил в одну кучу: и подонки революции, и ее вожди –
все точно были для него равны.
– …А так называемые идеалисты, лучшие из них, которые
за компанию с министрами и генералами убивают с ангельски невинным, мученическим
видом их кучеров, их адъютантов, их детей, их просителей, что затем нисколько
им не мешает хранить гордый, героический, народолюбивый лик! Всегда ведь можно
найти хорошие успокоительные изречения: «лес рубят, щепки летят», «любовь к
ближнему, любовь к дальнему», правда? Они и в Евангелии находят изречения в
пользу террора. Гуманные романы пишут с эпиграфами из Священного писания…
Награбленные деньги бескорыстно отдают в партийную кассу, но сами на счет
партийной кассы живут, и недурно живут! Грабят и убивают одних богачей, а
деньги берут у других – дураков у нас, слава Богу, всегда было достаточно!..
Двойная бухгалтерия, очень облегчающая и облагораживающая профессию… Из убийств
дворников и городовых сделали новый вид охоты. Тысячи простых, неученых, ни в
чем не повинных людей перебили, как кроликов… Да что говорить! Нет такой
гнусности, перед которой остановились бы эти люди… Они нас называют
опричниками! Поверьте, сами они неизмеримо хуже, чем мы, да еще в отличие от
нас па словах так и дышат человеколюбием. Дай им власть, и перед их опричниной
не то что наша, а та, опричнина царя Ивана Васильевича, окажется стыдливой
забавой!..
Яценко слушал его со странным чувством, в котором к
беспокойству и недоверию примешивалось нечто похожее на сочувствие, этого
Николай Петрович потом не мог себе объяснить. Многое из того, о чем говорил
Федосьев, было совершенно неизвестно следователю, кое‑что он знал и смутно
вспоминал по газетам. Яценко понимал односторонность нападок Федосьева,
несправедливость разных его доводов, но в таком подборе и рассказе доводы эти
звучали убедительно и грозно. «А все‑таки здесь он ошибается… Преступление
преступлению рознь… Да, то они могли сделать, а это невозможно… Притом как же
они могли отравить Фишера? Ведь все это чистая фантазия… Нет, люди, ему
подобные, видно, становятся маньяками», – думал Николай Петрович.
– Разрешите формулировать вашу мысль, – сказал он,
когда Федосьев наконец кончил. – По вашим подозрениям, какой‑то
революционер непонятным образом проник в квартиру, где был Фишер, и отравил его
в расчете на то, что миллионы перейдут к дочери убитого, которая пожертвует их
на революционные цели? Или ваши подозрения еще ужаснее и идут к самой дочери
Фишера? Но ведь она находится за границей…
Вдруг мысль о докторе Брауне поразила Николая Петровича.
«Какая ерунда!» – сказал себе он.
– Не преувеличивайте значения моих слов, – уже
спокойно, даже с некоторым сожалением ответил Федосьев. – Я сказал вам,
что это только одна из возможностей, если хотите возможность чисто
теоретическая. Вы изволили мне возразить: это совершенно неправдоподобно. Ваши
слова меня, каюсь, задели, и я изложил вам – слишком пространно, – почему
я такую возможность совершенно неправдоподобной не считаю.
– Значит, вы не настаиваете на своем подозрении? –
спросил Яценко.
– Нет, теперь не настаиваю, – ответил нехотя
Федосьев. – Да я и прежде только смутно подозревал… Во всяком случае, вам
виднее. И добавлю, теперь это уж никак не мое дело, – сказал он,
улыбаясь. – Разрешите поделиться с вами маленькой новостью, вы о ней
завтра прочтете в газетах. Мои услуги признаны ненужными русскому государству,
и я, ко всеобщей радости, уволен в чистую отставку, с мундиром и пенсией, но
больше ни с чем.
«Вот оно что! – подумал Николай Петрович. – То‑то
он так демоничен… Что ж, не сочувствие же ему выражать, в самом деле».
– Очень быстро у нас идут перемены, – уклончиво
сказал Яценко.
– Да, мы не засиживаемся. Очевидно, высшее
правительство совершенно уверено в своей силе, прочности и государственном
искусстве. Слава Богу, конечно… Да, так, видите ли, я не считал себя вправе
оставлять своему преемнику дело о Загряцком. Я эту кашу заварил, я ее должен
был и расхлебать. Скажу еще, что Загряцкий значится не за охранным отделением,
там о нем ничего не знают. А у меня он известен только под кличкой Брюнетка,
которую я поэтому также вынужден вам открыть.
– Брюнетка, – повторил Яценко. Оставившее его было
раздражение вновь им овладело. – Не могу, однако, не сказать вашему
превосходительству, что вы напрасно называете ваши действия расхлебыванием
каши. Напротив, расхлебывать ее придется нам, а эта каша с Брюнеткой невкусная,
ваше превосходительство.
– Очень сожалею, что доставил вам огорчение. Впрочем,
оно ведь не так уж велико? Прокуратура направит дело к доследованию в порядке
пятьсот двенадцатой статьи. Это, наверное, не может повредить вашей репутации,
она достаточно прочна… Я все‑таки хотел бы и очень бы вас просил, чтобы
настоящая роль Загряцкого осталась неразоблаченной. Очень бы просил, Николай
Петрович… Но если, как я боюсь, это окажется практически невозможным, –
вставая, сказал он с подчеркнутой иронией, – то ведомству вашему, да и
лично вам тревожиться нечего. Вся одиозность дела ведь падет на наше ведомство,
точнее, на вашего покорного слугу. Вам, напротив, обеспечено общественное
сочувствие, которое по нынешним временам всего важнее… Прощайте, Николай
Петрович, я у вас засиделся.
Яценко, с трудом сдерживаясь, сухо простился с посетителем.
Он счел, впрочем, необходимым проводить его до дверей коридора именно ввиду
отставки и опалы Федосьева.
– Да, кстати, – добавил у двери Федосьев, –
не трудитесь искать убийцу по дактилоскопическому снимку. Это рука
околоточного, который производил дознание. Да, да, да… Он по неосторожности
прикоснулся к бутылке… Околоточный Шавров… Я случайно выяснил… Прощайте,
Николай Петрович, – любезно, почти ласково повторил он, выходя из
кабинета.
Яценко растерянно смотрел ему вслед.
|


