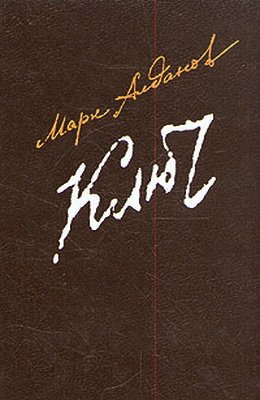
 Увеличить Увеличить |
III
В комнату с видом скромного триумфатора вошел Березин. Все
осыпали его поздравлениями.
– Господа, моей заслуги нет никакой, – склонив
голову набок, сияя ласковой улыбкой и подведенными глазами, говорил бархатным
баритоном актер. – Сердечно вас благодарю. Быть может, основная идея моей
постановки, мое толкование «Анатзмы» в самом деле свежи, ну, свободны от этой,
знаете, академической условности, ко, право, заслуга успеха принадлежит не мне,
а труппе… Вот ему и другим, – шутливо пояснил он, показывая на Витю. Князь
Горенский, взяв за пуговицу Березина, тотчас вступил с ним в беседу.
«Значит, в самом деле сошло недурно, – с облегчением
подумал Витя, – и Сергей Сергеич не жалеет, что поручил мне эту роль». На
первом заседании участников спектакля высказывалось мнение, что «Некто,
ограждающий входы» должен быть огромного роста. Березин с этим соглашался, но
выбирать не приходилось: охотников взять эту роль было немного, и ее поручили
Вите. «Ну, мы вас как‑нибудь приспособим», – утешил его Сергей Сергеевич.
Витю действительно с внешней стороны приспособили. По роли
ему полагались «длинный меч» и «широкие одежды, в неподвижности складок и
изломов своих подобные камню». Меч Березин доставил из своего театра; а с
широкими одеждами вышло трудновато. Актерам полагалось изготовить костюмы на
свой счет, вернее, о расходах никто ничего не говорил. Главные участники
спектакля шили платье у театральных костюмеров. Витя убедительно представил
матери необходимость сделать то же самое. Но Наталья Михайловна твердо заявила,
что таких одежд все равно никакой костюмер не сошьет, и предложила сшить костюм
дома и использовать для него свой старый шелковый пеньюар. От этой мысли Витя
сначала пришел в ужас. Однако затем оказалось, что предложение Натальи
Михайловны было не так уж нелепо. Вообще Витя с неудовольствием замечал, что в
его спорах с матерью ее указания, первоначально очень его раздражавшие,
оказывались часто верными. Так и на этот раз приглашенная Натальей Михайловной
домашняя портниха Степанида сшила из пеньюара костюм, который на репетиции
признан был вполне удачным. Заказывая одежды Ограждавшего входы, Витя с
мучительной неловкостью объяснил Степаниде идею костюма . Но портниху
удивить было трудно, вид у нее был такой, точно она всю жизнь шила – и притом
из старых пеньюаров – широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих
подобные камню. Степанида, женщина интеллигентная, не удовлетворившись
объяснением Вити, потребовала у него книгу Андреева и, одобрительно кивая
головой, прочла вслух то, что относилось к внешнему облику Ограждавшего входы.
«Облаченный в широкие одежды, в неподвижности складок и изломов своих подобные
камню, – медленно, с видом полного одобрения читала Степанида, – Он
скрывает лицо свое под темным покрывалом и сам являет собой величайшую тайну.
Единый мыслимый, един Он предстоит земле: стоящий на грани двух миров, Он
двойственен своим составом: по виду человек, по сущности Он Дух. Посредник двух
миров, Он, словно щит огромный, собирающий все стрелы, – все взоры, все
мольбы, все чаяния, укоры и хулы. Носитель двух начал. Он облекает речь свою в
безмолвие, подобное безмолвию самих железных врат, и в человеческое слово…»
Витя и теперь краснел, вспоминая чтение Степаниды. Он говорил всем, что
чрезвычайно любит «Анатэму». «Да нет же, может, и вправду все отлично сошло? –
подумал Витя, с благодарностью глядя на Березина, который, все так же склонив
голову набок и снисходительно улыбаясь, говорил с князем Горенским. –
Сейчас и Мусю увижу!..» Его усталость вдруг сменилась радостным оживлением.
Перед угловым диваном остановился с подносом лакей. Витя залпом выпил бокал
крюшона.
– Витенька! Однако! – с укором сказала Наталья
Михайловна, пригрозив ему пальцем. Не раздражившись и не обратив внимания на
замечание матери, Витя отошел к группе, собравшейся вокруг Сергея Сергеевича. Там
все еще говорили о пьесе.
– Нет, Леонид Андреев очень талантливый человек и
недаром он у нас властитель дум, – говорил ласково Березин, обращаясь
преимущественно к Яценко и к Брауну, который слушал не очень внимательно. Вид у
Брауна, впрочем, был много лучше и оживленнее, чем прежде.
– Его таланта я нисколько не отрицаю, – ответил
Николай Петрович, – да и человек он, кажется, очень хороший.
– Не отрицаю и я, – сказал Браун. – Он, во
всяком случае, наиболее известный писатель выдающегося, даже замечательного
поколения, которое волей судьбы прожило свой век на ходулях… На ходулях оно и
умирало, притом порою геройски.
– Сергей Сергеевич, так ли верно, что Андреев теперь
властитель дум? – вмешался Фомин. – По‑моему, он был им лет пять тому
назад.
– Молодежь и сейчас очень им увлекается, – сказал
Яценко, думая о Вите. – А насколько я могу судить, наша молодежь, хоть и
ломается немного, все же лучше и чище западной. Там только о карьере и думают
да еще о спорте. Возьмите Америку…
– Возьму, возьму, нам Америке надо в ножки
кланяться, – сказал с усмешкой Нещеретов.
Яценко взглянул на него холодно.
– Не во всем, я думаю.
– А я так думаю, что во всем.
– В Америке, – сказал Браун, – людям, как
говорят, с детства внушают основной культ: культ богатства. Казалось бы, культ
понятный и общедоступный, но человечество так косно, что ему нужно внушать даже
величие доллара, и внушается оно там с необыкновенной силой, с замечательным
искусством, всеми способами, вот теперь нашли новый, самый действительный:
кинематограф с его картинами из жизни богачей… В лучшем случае получается
Рокфеллер, в худшем – разбойник с большой дороги. Но именно благодаря прочности
основного культа американцы могут себе позволить и роскошь, например, культ
Вашингтона, Линкольна, Эдисона – вроде как в блестящую пору крепостного права
наши помещики могли себе позволить вольтерьянство. Наблюдатели американской
жизни говорят в последнее время о духовном голоде в Соединенных Штатах – я
спокоен: от этого голода Соединенные Штаты не пропадут.
«Ишь, как он разговорился, молчальник», – подумал Семен
Исидорович.
– В том, что вы говорите, дорогой доктор, бесспорно,
много верного, – сказал Кременецкий (как все, произносящие эту фразу, он
не чувствовал ее неучтиво‑самоуверенного характера). – Однако разрешите
мне сказать вам, что ведь и Россия не пропадет, правда?..
– Предприятие громадное, но не так чтобы слишком
солидное, – вставил, смеясь, Нещеретов.
– Ну, ничего, Бог даст, не пропадем… Не пропадем,
Аркадий Николаевич, – с тонкой улыбкой продолжал Семен Исидорович. –
И все же я думаю, что этот духовный голод, о котором вы говорили, дорогой
доктор, эти мятущиеся искания, эта святая неудовлетворенность составляют лучшее
украшение русского духа… Мы очень отстали от запада в смысле культуры
материальной. Но по духовности, если можно так выразиться, запад отстал от нас
на версту…
– Изюминки там нет, это верно, – подтвердил князь
Горенский. – Положительно, эта изюминка самое гениальное, что написал в
своей жизни Толстой.
– Духовный голод у нас, конечно, велик, – сказал,
не дослушав, Браун. – Но у средней нашей интеллигенции этот голод
несколько отзывается захолустьем. В последние пятьдесят лет у нас почти все
молодое поколение воспитывалось в идее борьбы с правительством… Я не возражаю
по существу, – добавил он, – но во имя чего ведется борьба? Во имя
конституционного или республиканского строя, то есть ради того, что на западе
давно осуществлено. Тургеневский Инсаров герой, но он провинциал безнадежный.
– Говорят, Аркадий Николаевич, что вы хотите основать
свой театр? – спросил Фомин. – Поговаривают также о газете. Много
вообще поговаривают.
– Вилами на воде все писано.
– Знаете, Аркадий Николаевич, кто от вас без
ума? – вмешался с улыбкой Кременецкий. – Очень красивая дама… Не
знаете? Елена Федоровна Фишер. Наша с Николаем Петровичем добрая знакомая.
– Та, с которой я у вас обедал? – спросил
Нещеретов с интересом, несколько неожиданным для Семена Исидоровича. –
Действительно, интересная дама… Что же ее дело?
– Это у Николая Петровича надо узнать.
Яценко неопределенно развел руками.
– Александр Михайлович, что такое, собственно, этот яд,
которым отравлен Фишер? – спросил Брауна Кременецкий.
– Почем мне знать? Вы спросите у того аптекаря, который
производил экспертизу.
– Ну, он не аптекарь, – сказал Яценко. – Это
химик‑фармацевт губернского правления.
– Вот у химика‑фармацевта губернского правления и надо
спросить.
«И об этом тогда на вечере говорили», – опять подумал
Витя.
– Александр Михайлович, кажется, не очень высокого
мнения о нашей экспертизе.
– Хвалить ее действительно не за что, – резко
ответил Браун.
Разговоры в кабинете стихли.
– Вы имеете основания сомневаться в выводах
экспертизы? – спросил Кременецкий.
– Я очень мало о ней знаю, но чрезмерная определенность
в решении вопросов, по меньшей мере темных, естественно, должна вызывать
сомнение… Да и все так называемое научное следствие!.. Знаете, как дети рисуют:
начнет рисовать наудачу головку, вышло немного похоже на тетю Маню, он и
продолжает тетю Маню.
– Насколько я могу понять, вы вообще плохо верите в
судебно‑медицинское исследование, – заметил сухо Яценко – тон Брауна его
раздражал. – Однако на основании такой же экспертизы людей ежедневно
отправляют в нашей отсталой стране на каторгу, а на западе и на эшафот.
– Я и думаю, что процент невинно осужденных среди этих
людей довольно значителен, особенно среди тех, кого осуждают на основании
разных последних слов науки.
– Да это ужасно! – сказала с возмущением Наталья
Михайловна.
– Позвольте, значит, вообще никогда нельзя установить
правду? – спросил Горенский.
– Зачем же вообще и никогда? Очень часто можно, но
далеко не всегда… Мы не знаем полной правды ни об одном почти историческом
событии, хотя свидетелями и участниками каждого были сотни заслуживающих
доверия людей, ведь выводы разных историков часто исключают совершенно друг
друга. Но вот в уголовном суде вы убеждены, что постоянно все узнаете до конца,
да еще всем предписываете, как во Франции, говорить «правду, всю правду и
только правду». А они, и виновные, и невиновные, обычно не могут не лгать,
потому что вся их жизнь выворачивается наизнанку на потеху публике.
– Не могу с вами согласиться, – сказал
Яценко. – Порядочному человеку скрывать нечего, и он на суде под присягой
лгать не станет.
– Однако в самом деле было бы ужасно предположить, что
на эшафот и на каторгу часто посылают ни в чем не повинных людей! –
воскликнул Горенский.
– Я это отрицаю категорически, – сказал, слегка
бледнея, Николай Петрович. – Судебные ошибки составляют самое редкое
исключение. Их процент совершенно ничтожен.
– Для того, кто невинно осужден, есть полных сто
процентов судебной ошибки, – ответил Браун. – Но я, кроме того,
позволяю себе думать, что ничтожен процент не судебных ошибок, а лишь тех из
них, которые рано или поздно раскрываются. У людей, сосланных в Гвиану или в
Сибирь, остается не так много способов доказать свою невиновность.
– А у казненных тем паче, – подхватил Нещеретов.
– На месте служителей правосудия я скорее утешался бы
другим, – продолжал с усмешкой Браун, обращаясь к Николаю
Петровичу. – Конечно, очень многие порядочные люди, случалось, подходили
вплотную к преступлению. Однако на скамью подсудимых в уголовном суде в
громадном большинстве случаев попадают все же люди весьма невысокого морального
уровня. Преступления, в котором их обвиняют, они, может быть, и не совершили,
но особенно жалеть о них тоже нечего. Вот чем бы я утешался на вашем месте.
– Это довольно странная мысль, – сказал, с трудом
сдерживаясь, Яценко.
– Отчего же? – вставил Фомин. – Гамлет
говорит: «Если б с каждым поступать по заслугам, то кто избежал бы корки?»
– Вот это так! – засмеялся Нещеретов. – Ай да
Гамлет!
Фомин тоже засмеялся и повторил по‑английски старательно
заученную цитату. Произнося английские слова, он как‑то странно, точно с
отвращением кривил лицо и губы, очевидно, для полного сходства с англичанами.
– Есть изречение еще более удивительное, – сказал,
зевая, Браун. – Помнится, Гете заметил, что не знает такого преступления,
которого он сам не мог бы совершить.
В гостиной зазвенел звонок.
– В зал, в зал, господа! – сказал
Кременецкий. – Сейчас начнется «Белый ужин».
|


