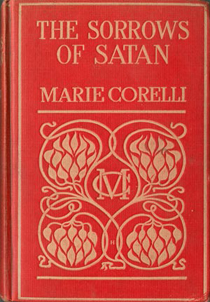
 Увеличить Увеличить |
XXXIX
Вид величественных построек, обширных, роскошных,
гигантских, — улиц, наполненных мужчинами и женщинами в белых и цветных
одеждах, украшенных драгоценными каменьями, — цветов, растущих на крышах
дворцов и перекидывающихся от террасы к террасе фантастическими петлями и
гирляндами, — деревьев с раскидистыми ветвями, покрытыми густой
листвой, — мраморных набережных, глядевших в реку, — лотосов,
растущих густо внизу у берега. Серебристые звуки музыки раздавались из тенистых
садов и крытых балконов; каждая красивая деталь виделась мне более явственно,
чем резьба из слоновой кости на эбеновом щите. Как раз напротив того места, где
я стоял (или мне казалось, что я стоял) на палубе корабля, в деятельной гавани
тянулась широкая улица, раскрывающаяся в громадные скверы, украшенные странными
фигурами гранитных богов и животных; я видел сверкающие брызги многих фонтанов
при лунном свете и слышал тихий настойчивый гул беспокойных человеческих масс,
толпившихся на площади, как пчелы в улье.
Слева я различал громадные бронзовые ворота, охраняемые
сфинксами; там был сад, и из этой тенистой глубины до меня доносился женский
голос, певший странную дикую мелодию. Тем временем звуки марша, которые раньше
всего долетели до моего слуха, звучали все ближе и ближе, и тотчас я заметил
приближающуюся большую толпу с зажженными факелами и гирляндами цветов. Скоро я
увидел ряды жрецов в блестящих одеждах, унизанных каменьями, горевших, как
солнце. Они двигались к реке, и с ними шли юноши и маленькие дети, тогда как по
обе стороны девушки в белых покрывалах и с венками роз скромно выступали, по
временам колыхая серебряными кадильницами. За процессией жрецов шла царственная
особа между рядами рабов и слуг: я знал, что это был властелин «Города
Прекрасного», и я почти сделал движение, чтобы присоединиться к оглушительным
радостным крикам, которыми он был встречен! За его свитой следовал белоснежный
паланкин, несомый девушками, увенчанными лилиями. Кто занимал его?.. Какая
драгоценность его страны заключалась там? Я был охвачен необыкновенным желанием
узнать это. Я следил за белой ношей, приближающейся к пункту моего наблюдения;
я видел, что жрецы расположились полукругом на набережной реки. Царь был в
середине, а волнующаяся, шумящая толпа — вокруг; раздался звон медных
колоколов, смешавшийся с барабанным боем и резкими звуками тростниковых труб, и
среди света горящих факелов белый паланкин был поставлен на землю. Женщина,
одетая в блестящую серебряную парчу, вышла оттуда, как сильфида из морской
пены, но она была закрыта покрывалом; я не мог различить очертания ее лица, и
острое разочарование в этом было настоящей мукой для меня. Если б я только мог
увидеть ее, думалось мне, я узнал бы нечто, о чем до сих пор никогда не
догадывался!
— Подними, о, подними скрывающее тебя покрывало, дух
Города Прекрасного! — молил я внутренне. — Так как я чувствую, что
прочту в твоих глазах тайну счастия!
Но покрывало не поднялось… Музыка производила варварский шум
в моих ушах… Блеск яркого света ослеплял меня, и я чувствовал, что погрузился в
темный хаос, где, как я воображал, я гнался за луной, которая летела передо
мной на серебряных крыльях, затем… Звук могучего баритона, распевавшего легкую
песенку из современной оперы-буфф, смутил и поразил меня, и в следующую секунду
я уже дико уставился на Лючио, который, свободно развалившись в своем шезлонге,
весело напевал ночному безмолвию и пустынному пространству песчаного берега,
перед которым неподвижно стояла наша барка. С криком я бросился на него.
— Где она? — воскликнул я. — Кто она?
Он взглянул на меня, не отвечая, и, загадочно улыбаясь,
высвободился из моих рук. Я отодвинулся, растерянный и содрогаясь.
— Я видел все, — пробормотал я, — город…
жрецов… народ… царя… все, кроме ее лица. Отчего оно было скрыто от меня?
И невольно настоящие слезы навернулись мне на глаза. Лючио
следил за мной, видимо, забавляясь.
— Какой бы вы были «находкой» для первоклассного
«спирита»-обманщика, проделывающего свои фокусы в культурном и легко
поддающемся одурачиванию лондонском обществе! — заметил он. — На вас,
по-видимому, преходящее видение произвело могущественное впечатление.
— Вы хотите сказать мне, — с жаром говорил
я, — что то, что я сейчас видел, не более, как мысль вашего мозга,
переданная моему?
— Несомненно, — ответил он. — Я знаю, каким
был «Город Прекрасный»! И я был в состоянии нарисовать его вам на холсте моей
памяти и представить его, как законченную картину, вашему внутреннему зрению,
так как у вас есть внутреннее зрение, хотя, как большинство людей, вы
пренебрегаете этой способностью и не осознаете ее.
— Но кто она была? — упрямо повторил я.
— «Она» была царская фаворитка. Если она скрыла свое
лицо от вас, как вы жалуетесь, я очень сожалею, но, уверяю вас, это не была моя
ошибка. Идите спать, Джеффри; вы выглядите расстроенным. Вы дурно воспринимаете
видения, между тем они гораздо лучше действительности, поверьте мне.
Я как-то не мог ему ответить. Я быстро оставил его и сошел
вниз, чтобы заснуть, но все мои мысли были жестоко спутаны, и я более, чем
когда-либо, был подавлен чувством усилившегося ужаса — чувством, в котором
таилась какая-то неземная сила. Это было мучительное ощущение, оно временами
заставляло меня убегать от взгляда глаз Лючио; иногда, в самом деле, я почти
трусил перед ним: так велик был неопределенный страх, испытываемый мною в его
присутствии. Мне это не было внушено видением «Города Прекрасного», потому что
это, в конце концов, было только явлением гипнотизма, как он мне сказал, и как
я с радостью себя убедил. Но вся его манера внезапно начала поражать меня, как
она никогда раньше меня не поражала.
Если в моих чувствах в нему медленно происходила какая-то
перемена, то, несомненно, и он изменился ко мне. Его властное обращение
сделалось еще более властным; его сарказм — более саркастическим; его презрение
к человечеству обнаруживалось более открыто и выражалось чаще. Однако я
восхищался им так же, как всегда; я наслаждался его разговорами, какими бы они
ни были — острумными, философскими или циничными. Я не мог представить себя без
его общества. Тем не менее сумрак моего духа увеличивался; наша нильская
экскурсия сделалась для меня бесконечно томительной — до такой степени, что
прежде, чем мы достигли половины пути нашей поездки по реке, я стал страстно
желать возвратиться и окончить путешествие.
Инцидент, случившийся в Люксоре, еще более усилил это мое
желание.
Мы оставались там несколько дней, исследуя область и посещая
развалины Фив и Карнака, где были заняты раскопкой могил. Однажды был обнаружен
нетронутый красный гранитный саркофаг: в нем находился покрытый богатой
живописью гроб, который был раскрыт в нашем присутствии и содержал в себе тщательно
изукрашенную мумию женщины. Лючио показал себя сведущим в чтении иероглифов и
перевел кратко и точно историю тела, написанную внутри гроба.
— Танцовщица при дворе царицы Аменартесы, —
объявил он мне и нескольким заинтересованным зрителям, окружавшим
саркофаг, — которая по причине многих грехов и тайных преступлений,
сделавших ее жизнь нестерпимой и ее дни полными развращенности, умерла от яда,
принятого из собственных рук по приказанию царя и в присутствии исполнителей
закона. Такова история леди, сокращенная. Конечно, есть много других деталей.
По-видимому, ей был всего двадцатый год. Но, — и он улыбнулся, оглядывая
свою маленькую аудиторию, — мы можем поздравить себя с прогрессом по
сравнению с этими, чрезмерно строгими, египтянами. Грехи танцовщицы, на наш
взгляд, не слишком серьезны. Не посмотреть ли нам, какова она?
Это предложение не встретило ни одного возражения, и я,
который никогда не присутствовал при развертывании мумии, следил за процедурой
с интересом и любопытством. Когда одно за другим были сняты благовонные
покрывала, показалась длинная коса каштановых волос; затем те, что были
приглашены для работы, с величайшей осторожностью и помощью Лючио приступили к
развертыванию ее лица.
Когда это было сделано, болезненный ужас охватил меня: потемневшие
и жесткие, как пергамент, черты были мне знакомы, и когда появилось все лицо, я
мог бы громко крикнуть: «Сибилла!» — так как она была похожа на нее, ужасно
похожа, и когда слабые полуароматические-полугнилостные запахи завернутых
полотен дошли до меня, я, пошатнувшись, отпрянул назад, закрыв глаза.
Непреодолимо я вспомнил о тонких французких духах, которыми пахла одежда
Сибиллы, когда я нашел ее мертвой; то и это нездоровое испарение были так
сходны. Человек, стоявший около меня, увидел, что я наклонился, как бы падая, и
подхватил меня.
— Я боюсь, что солнце слишком сильно для вас, —
сказал он ласково. — Этот климат не всем подходит.
Я принудил себя улыбнуться и пробормотал что-то о
головокружении; затем, придя в себя, я боязливо взглянул на Лючио, который
внимательно рассматривал мумию со странной улыбкой.
Вдруг, нагнувшись над гробом, он вынул кусочек золота тонкой
работы, в форме медальона.
— Это, я думаю, должен быть портрет танцовщицы, —
сказал он, показывая его жадным и восклицающим зрителям. — Настоящий клад!
Удивительное произведение древнего искусства и, кроме того, портрет
очаровательной женщины. Вы так не думаете, Джеффри?
Он протянул мне медальон, и я рассматривал его с болезненным
интересом: лицо было восхитительно прекрасно, но, несомненно, это было лицо
Сибиллы.
Я не помню, как я прожил остаток этого дня. Вечером, как
только мне представился случай поговорить наедине с Риманцем, я спросил его:
— Видели ли вы… узнали ль вы?..
— Что умершая египетская танцовщица похожа на вашу
жену, — спокойно продолжил он. — Да, я тотчас же это заметил. Но это
не должно дурно влиять на вас. История повторяется. Почему бы и красивым
женщинам не повторяться? Красота всегда имеет где-нибудь своего двойника: или в
прошедшем, или в будущем.
Я больше ничего не сказал, но на следующее утро я был совсем
болен — так болен, что не мог встать с постели и провел часы в беспокойном
стенании и раздражающих болях, которые были не столько физическими, сколько
нравственными. В отеле в Люксоре жил врач, и Лючио, всегда особенно
внимательный к моему личному комфорту, тот час же послал за ним. Тот попробовал
мой пульс, покачал головой и после небольшого размышления посоветовал мне
немедленно оставить Египет. Я выслушал его предписание с едва скрываемой
радостью. Стремление уехать из этой «страны старых богов» было напряженным и
лихорадочным; я проклинал обширное и страшное безмолвие пустыни, где Сфинкс
выражает презрение к пошлости человечества, где открытые могилы и гробы
выставляют еще раз на свет лица, похожие на те, что мы знали и любили в свое
время, и где нарисованные истории рассказывают нам о тех же самых вещах, как и
наши современные газетные хроники, хотя и в другой форме. Риманец с охотной
готовностью приводил в исполнение приказание доктора и распорядился о нашем возвращении
в Каир, а оттуда в Александрию с такой быстротой, что мне ничего не оставалось
желать, и я был исполнен благодарностью за его явную симпатию.
В короткий промежуток времени, благодаря обильной кассе, мы
вернулись на нашу яхту и были на пути, как я цумал, в Англию или во Францию.
Однако мы, по идее Лючио, плыли мимо берегов Ривьеры, но мое старое доверие к
нему почти возвратилось, и я не противоречил его решению, достаточно
удовлетворенный, что мне не пришлось оставить свои кости в населенном ужасами
Египте. И не раньше, как через неделю или десять дней моего пребывания на
борту, когда я уже хорошо восстановил свое здоровье, наступило начало конца
этого незабвенного путешествия в такой страшной форме, что почти погрузило меня
во тьму смерти, или, скорее (теперь скажу, выучив основательно мой горький
урок), в блеск той загробной жизни, которую мы отказываемся признавать, пока не
унесемся в ее исполненном славы или ужаса вихре.
Однажды вечером, после быстрого и интересного плавания по
гладкому, залитому солнцем морю, я удалился в свою каюту, чувствуя себя почти
счастливым.
Мой дух был совершенно спокоен, моя вера в моего Лючио опять
восстановилась, и я могу добавить, что также вернулась ко мне старая
высокомерная вера в себя. Разнообразные горести, которые я переносил, начали
принимать неясный образ, как вещи давно прошедшие; я опыть с удовольствием
думал о силе моего финансового положения и мечтал о второй женитьбе — о
женитьбе на Мэвис Клер. Я в душе поклялся, что другая женщина не будет моей
женой — она, и одна она, будет моей! Я не предвидел затруднений на этом пути и,
полный приятных грез и иллюзий, быстро уснул. Около полуночи я проснулся в
смутном страхе и увидел свою каюту залитую ярким красным светом, точно огнем.
Первой моей мыслью было, что яхта горит; в следующую секунду меня парализовало
ужасом: Сибилла стояла предо мной… Сибилла, дикая, странная, корчившаяся от
мук, полуодетая, размахивающая руками и делающая отчаянные жесты; ее лицо было
таким, как я видел его в последний раз — мертвое, посинелое и безобразное; ее
глаза горели угрозой, отчаянием и предостережением мне. Вокруг нее, как змея,
извивалась гирлянда пламени… Ее губы двигались, словно она силилась заговорить,
но ни один звук не вышел из них, и, когда я глядел на нее, она исчезла. Тогда,
должно быть, я потерял сознание, потому что, когда я проснулся, был уже яркий
день. Но это видение было только первым из многих подобных, и, наконец, каждую
ночь я видел ее такой же, окутанной пламенем, пока я чуть не сошел с ума от
страха и горя. Мое мучение не поддается описанию, однако я ничего не сказал
Лючио, который, как мне чудилось, внимательно следил за мной. Я принимал
усыпительные лекарства, надеясь обрести покой, но напрасно: я просыпался всегда
в определенный час и всегда видел этот огненный призрак моей мертвой жены — с
отчаянием в ее глазах и непроизносимым предостережением на устах. Это было не
все. Однажды в солнечный тихий полдень я вышел один в салон яхты и отшатнулся,
пораженный, увидев моего старого товарища Джона Кэррингтона, который сидел за
столом с пером в руке, подсчитывая счета. Он наклонился над бумагами; его лицо
было морщинисто и очень бледно, но он так был похож на живого человека, так
реален, что я назвал его по имени; он оглянулся, страшно улыбнулся и исчез.
Дрожа всем телом, я понял, что второй ужасный призрак прибавился к тягости моих
дней, и, сев, я попробовал собрать рассеянные силы и рассудок и придумать, что
можно было сделать. Несомненно, я был болен: эти привидения предостерегали о
болезни мозга. Я должен стараться строго контролировать себя, пока не доберусь
до Англии, а там я решил посоветоваться с лучшими врачами и отдать себя на их
попечение, пока окончательно не поправлюсь.
— Тем временем, — бормотал я сам себе, — я
ничего не скажу… даже Лючио. Он бы только улыбнулся… и я бы возненавидел его…
Здесь я прервал себя. Было ли возможно, чтобы я когда-нибудь
возненавидел его?
Безусловно, нет.
В эту ночь для разнообразия я спал в гамаке на палубе, в
надежде избавиться от полуночных призраков, отдыхая на открытом воздухе. Но мои
страдания только усилились. Я проснулся по обыкновению… чтоб увидеть не только
Сибиллу, но также, к моему смертельному ужасу, трех призраков, которые
появились в моей комнате в Лондоне в ночь самоубийства виконта Линтона.
Они были точь-в-точь такими же, только на этот раз их
посиневшие лица были открыты и повернуты ко мне, и, хотя их губы не двигались,
слово «горе», казалось, было произнесено, так как я слышал, как оно звучало,
как погребальный колокол, в воздухе и на море… И Сибилла с ее мертвенным лицом,
окруженная пламенем… Сибилла улыбалась мне улыбкой муки и раскаяния… Боже! Я
больше не мог этого вынести. Спрыгнув с гамака, я побежал на край корабля,
чтобы броситься в холодные волны… Но там стоял Амиэль с непроницаемым лицом и
хорьковыми глазами.
Я уставился на него, потом разразился хохотом:
— Помочь мне! О нет. Вы ничего не можете сделать. Я
хочу отдохнуть… но я не могу спать здесь… Воздух слишком густой, и звезды горят
жарко…
Я остановился; он глядел на меня со своим обычным
насмешливым выражением.
— Я сойду к себе в каюту, — продолжал я, стараясь
говорить спокойно. — Я там буду один, быть может.
Я опять невольно и дико расхохотался и, отойдя от него
неровными шагами, спустился вниз по лестнице, страшась оглянуться из боязни
увидеть те три фигуры судьбы, преследующих меня.
Очутившись в каюте, я с бешенством запер дверь и с
лихорадочной поспешностью схватил ящик с пистолетами. Я вынул один и зарядил
его. Мое сердце жестоко стучало, я опустил глаза в землю, боясь, что они
встретят мертвые глаза Сибиллы. «Нажать курок, — шепнул я — и все кончено!
Я буду в покое, бесчувственный, без болезней, тяжелый. Ужасы не будут больше
преследовать меня… я усну…»
Я поднял оружие к правому виску, но вдруг дверь каюты
открылась, и Лючио заглянул.
— Простите, — сказал он, заметив мое
положение, — я не имел представления, что вы заняты. Я уйду. Я ни за что
на свете не хочу мешать вам.
Его улыбка имела что-то дьявольское в своей тонкой насмешке;
я быстро опустил пистолет.
— Вы говорите это! — воскликнул я с тоской. —
Вы говорите это, видя меня так! Я думал, вы были моим другом!
Он взглянул прямо на меня… Его глаза расширились и светились
смесью презрения, страсти и скорби.
— Вы думаете, — и опять страшная улыбка осветила
его бледные черты, — вы ошиблись! Я ваш враг.
Последовало тяжелое молчание. Нечто мрачное и неземное в его
выражении ужаснуло меня… Я задрожал и похолодел от страха. Машинально я уложил
пистолет в ящик, а затем взглянул на Лючио с бессмысленным удивлением и диким
состраданием, видя, что его мрачная фигура, казалось, выросла и поднималась
надо мной, как гигантская тень грозовой тучи. Моя кровь заледенела от
необъяснимого болезненного ужаса… Затем густая тьма заволокла мой взор, и я
упал без чувств.
|


