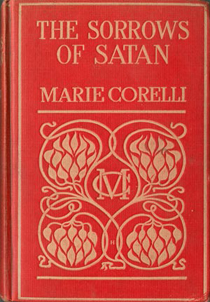
 Увеличить Увеличить |
XXV
Спустя несколько дней после приема в Виллосмире, прежде чем
газеты заговорили о пышности и роскоши, показанной при этом случае, я проснулся
в одно прекрасное утро, как великий поэт Байрон, «чтоб найти себя знаменитым».
Не за какое-нибудь интеллектуальное произведение, не за какой-нибудь
неожиданный геройский поступок, не за какое-нибудь великое положение в обществе
или политике, — нет! Я был обязан своей славой только четвероногому:
Фосфор выиграл Дерби.
Мой скакун почти голова в голову мчался с лошадью первого
министра, и несколько секунд результат казался сомнительным, но когда два жокея
приблизились к цели, Амиэль, сухая, тонкая фигура которого, одетая в шелк
самого яркого красного цвета, словно прилипла к лошади, пустил Фосфора аллюром,
какого он еще никогда не показывал, буквально летя над землею, и достиг
призового столба на два ярда или больше впереди своего соперника. Взрыв
одобрительных восклицаний огласил воздух, и я сделался героем дня — любимцем
черни. Меня забавляло поражение министра; он плохо принял удар. Он не знал
меня, и я — его; я не принадлежал к его политике и ни на йоту не заботился о
его чувствах, но я был удовлетворен, несколько в сатирическом смысле, вдруг
очутившись признанным более важным человеком, нежели он сам, — потому что
я был владельцем победителя Дерби. Прежде чем я хорошенько отдал себе отчет,
где я нахожусь, меня уже представляли принцу Уэльскому, который пожал мне руку
и поздравил меня; самые большие аристрократы Англии жаждали познакомиться со
мной, и внутренне я смеялся над этой выставкой вкуса и культуры со стороны
«джентльменов Англии». Они толпой окружили Фосфора, дикие глаза которого
предостерегали против вольного обращения, и который, по-видимому, был готов
снова бежать с одинаковым удовольствием и успехом. Темное, лукавое лицо Амиэля и
его хорьковые жесткие глаза, казалось, были непривлекательны для большинства
господ, хотя его ответы на все предлагаемые ему вопросы были удивительно точны,
почтительны и не лишены остроумия. Но для меня вся сущность была в том, что я,
Джеффри Темпест, некогда голодавший автор, потом миллионер, благодаря только
обладанию лошадью, выигравшей Дерби, наконец сделался «знаменитостью» или тем,
что общество называет знаменитостью; я достиг той славы, которая привлекает
внимание образованных и благородных по выражению торговцев и также вызывает
настойчивую лесть и бесстыдное преследование всех дам полусвета, желающих
бриллиантов, лошадей и яхт, преподносимых им в обмен на несколько зараженных
поцелуев с их накрашенных губ. И я стоял под потоком комплиментов, по-видимому,
восхищенный, улыбающийся, приветливый и учтивый, пожимая руки
высокопоставленным особам, но в тайнике моей души я презирал этих людей с их
хвастовством и лицемерием — презирал их с такой силой, что даже сам удивлялся.
Когда, наконец, я уходил со скачек вместе с Лючио, который по обыкновению,
казалось, знал всех и был другом всех, он заговорил таким мягким и ласковым
тоном, какого я у него еще никогда не слыхал.
— При всем вашем себялюбии, Джеффри, в вашей натуре
есть нечто сильное и благородное, нечто, что возмущается против лжи и подлости.
Зачем же вы не даете воли этому побуждению?
Я взглянул на него в изумлении и засмеялся.
— Не даю воли! Что вы этим хотите сказать? Не хотите ли
вы, чтобы я говорил в глаза этим хвастунам, что я знаю, каковы они, и лгунам,
что я различаю их ложь. Мой дорогой друг, общество слишком разгорячилось бы.
— Оно не может быть горячее или холоднее ада, если вы
верите в ад, в который вы, однако, не верите, — прибавил он тем же
спокойным тоном. — Но я не имел в виду, чтобы вы прямо говорили эти вещи,
нанося им оскорбление. Обидная откровенность не благородство, а только
грубость. Действовать благородно лучше, чем говорить.
— Что же, по-вашему, я должен был делать? —
спросил я с любопытством.
С момент он молчал, по-видимому, серьезно, почти мучительно
размышляя, затем он ответил:
— Мой совет покажется вам странным, Джеффри, но если вы
хотите его, вот он. Давайте волю, как я сказал, благородной и, как назвал бы
свет, сумасбродной частице вашей натуры, не жертвуйте вашим высоким чувством
правоты ради того, чтобы подчиняться чьей-нибудь власти или влиянию, и
проститесь со мной. Я вам только тем полезен, что удовлетворяю ваши
разнообразные фантазии, знакомлю вас с теми великими или малыми личностями,
каких вы желаете знать для своей выгоды и пользы. Верьте мне, это будет гораздо
лучше для вас и много утешительнее для неизбежного смертного часа, если вы
бросите весь этот ложный, суетливый вздор и меня вместе с ним. Оставьте
общество вертеться, как волчок, в своем безумии, покажите, что весь их блеск,
великолепие и надменность не стоят ничего в сравнении с высокой душой честного
человека, — и, как сказал Христос богатому властелину: «Продай имение твое
и раздай бедным».
Минуту или две я молчал, пока он, в ожидании, внимательно
следил за мной с бледным лицом.
Нечто вроде угрызения заставило дрогнуть мою совесть, и в
короткий промежуток времени я почувствовал смутное сожаление — сожаление, что,
обладая громадными данными делать добро моим ближним, благодаря моему
богатству, я не достиг высшего морального положения, чем то, которое
представляют собой суетные люди, составляющие так называемые «верхних десять»
общества. Я находил такое же удовольствие в себе самом и в своих делах, как и
они, и был так же сладкоречив и лицемерен, как они. Они играли свою комедию, а
я свою; никто из нас не был ни на мгновение самим собой. Сказать правду, одна
из причин, почему светские мужчины и дамы не терпят одиночества, — та, что
уединение, в котором они принуждены остаться глаз на глаз со своим настоящим "я",
делается нестерпимым для них, потому что они носят на себе бремя спрятанного
порока и обличительного стыда.
Однако мое душевное волнение скоро прошло, и, взяв Лючио под
руку, я улыбнулся, отвечая:
— Ваш совет, мой дорогой друг, пригодился бы для
проповедника о спасении души, но для меня он ничего не стоящий, так как
последовать ему невозможно. Проститься с вами навсегда, во-первых, было бы с
моей стороны черной неблагодарностью; во-вторых, общество, со всем своим
смешным фанфаронством, необходимо, однако, для развлечения как моего, так и
моей будущей жены, и мы не повредим себе, присоединяясь к общему хору;
в-третьих, если б я отдал половину моего состояния бедным, мне бы за это не
были благодарны, а только сочли бы меня сумасшедшим.
— А вы бы хотели благодарности?
— Натурально. Большинство людей любит маленькую
признательность за благодеяния.
— Так. Но и Творец редко получает ее.
— Я говорю о простых фактах на этом свете и о людях,
живущих на нем. Тот, кто дает щедро, ожидает быть признанным в великодушии, но если
б я разделил мое состояние и половину вручил бы бедным, то этот случай был бы
опубликован не более как в шести строчках в одной из газет, а общество
воскликнуло бы: «Что за дурак!»
— Тогда не будем больше говорить об этом, — сказал
Лючио, и его брови разгладились, и его глаза приняли обычное выражение насмешки
и веселья. — Выиграв Дерби, вы сделали все, что цивилизация девятнадцатого
века ожидает от вас, и в награду вы будете всюду приглашаемы. Вы можете
надеяться скоро обедать в Мальбрукском Дворце, и маленькая влиятельная лазейка
и политическая интрига введут вас в кабинет, если вы этого захотите. Факт тот,
что вы величайшее произведение времени, человек с пятью миллионами и владелец
победителя Дерби. Какая интеллектуальная слава сравнится с таким положением,
как ваше! Люди завидуют вам. Слава человека, гарантированная лошадью, есть
нечто, могущее действительно изумить!
Он шумно рассмеялся и с этого дня он больше не заговаривал о
своем странном предложении, чтоб я расстался с ним и дал волю «благороднейшему»
побуждению моей натуры. Я не знал, что он поставил ставку на мою душу и
проиграл ее, и что с той поры он принял по отношению ко мне решительную манеру,
неумолимую до страшного конца.
Моя свадьба состоялась в назначенный день июня со всей
пышностью и экстравагантностью, приличествующими моему положению и положению
женщины, которую я избрал себе в жены.
Нет необходимости описывать детально великолепие церемонии;
какая-нибудь модная «дамская газета», описывая бракосочетание графской дочери с
миллионером, даст полное представление общего эффекта! Это было поразительное
зрелище, где умопомрачительные наряды и убранство уничтожали совершенно всякое
размышление о торжественности или святости «божественного» обряда. Трогательные
слова Евангелия не привлекли и половины того внимания, какое было оказано
великолепным бантам из жемчуга и бриллиантов, прикреплявшим вышитый трен
невесты к ее плечам.
«Весь свет со своей супругой» присутствовал — тот свет,
который не представляет себе существования другого света, хотя он составляет
меньшую часть общества. Принц Уэльский сделал мне честь своим присутствием; два
великих прелата церкви совершали обряд венчания, блистая излишней шириной белых
рукавов и стихаря и равно внушая почтение тучностью своих фигур и лоснящейся краснотой
своих лиц. Лючио был моим старшим шафером. Он был в веселом, почти в бурном
расположении духа и всю дорогу, когда мы вместе ехали в церковь, занимал меня
нескончаемыми смешными историями по большей части касательно духовенства. По
приезде к священному зданию он сказал, смеясь, выходя из кареты:
— Не слыхали ли вы, Джеффри, что дьявол не может войти
в церковь, из-за креста на ней или в ней?
— Я, кажется, слыхал, — ответил я, улыбаясь на
веселость, искрившуюся в его сверкающих глазах.
Мягкие звуки органа среди безмолвной атмосферы, наполненной
ароматом цветов, быстро привели меня в торжественное настроение, и, опершись на
решетку алтаря, в ожидании невесты я в сотый раз принялся дивиться
необыкновенно гордому виду моего товарища, когда он со скрещенными руками и
поднятой головой рассматривал украшенный лилиями алтарь и блестевшее Распятие
над ним; его задумчивые глаза обнаруживали странное смешение благоговения и
презрения.
Я помню хорошо один случай, происшедший при внесении наших
имен в книгу. Когда Сибилла, это видение ангельской красоты, в ее белом
подвенечном платье, подписывала свое имя, Лючио наклонился к ней.
— Как старший шафер, я требую старинной
привилегии! — сказал он и поцеловал ее слегка в щеку.
Она ярко вспыхнула, потом вдруг мертвенно побледнела и с
подавленным криком опрокинулась без чувств на мои руки. Несколько минут прошло,
прежде чем она пришла в сознание, но она успокоила мою тревогу и смятение
подруг, и, уверив нас, что это пустяк, ничего больше, как влияние жаркой погоды
и волнения дня, она взяла меня под руку и спустилась, улыбаясь, с бокового
придела храма, сквозь блестящие ряды ее завистливых светских подруг, из которых
все жаждали ее счастия не потому, что она выходила замуж за достойного и
одаренного человека, — в этом не было бы причины для зависти, — а
просто потому, что она выходила замуж за пять миллионов фунтов стерлингов. Я
был приложением к миллионам — ничем больше. Она держала высоко и надменно свою
голову, хотя я почувствовал, что она дрожала, когда громоносные звуки свадебного
марша из «Лоэнгрина» торжественно полились в воздухе. Всю дорогу она ступала по
розам, я также вспомнил это… потом! Ее атласный башмачок давил сердца тысячам
невинных созданий, которые наверно были много дороже Богу, нежели она;
маленькие безобидные души цветов, чья задача жизни, сладостно исполненная, была
создавать красоту и теплоту своим чистым существованием, умирали, чтоб
удовлетворять тщеславие одной женщины, для которой ничего не было святого! Но,
признаюсь, я был еще в моем безумном сне и воображал, что умирающие цветы были
счастливы погибнуть под ее ногой.
После церемонии все гости съехались в доме графа Эльтона, и
в разгаре болтовни, еды и питья мы — моя новоиспеченная жена и я — уехали среди
расточительной лести и добрых пожеланий наших «друзей», которые, зарядившись
самым изысканным шампанским, сделали вид, что были искренни. Последним лицом,
простившимся с нами у дверец кареты, был Лючио, и при расставании с ним я
почувствовал печаль, не выразимую словами. С самого часа рассвета моего счастия
мы были почти неразлучными товарищами. Я был обязан своим успехом в обществе,
всем, даже моей невестой, его умению и такту, и хотя я получил теперь в
жизненные партнеры самую красивую женщину, я не мог смотреть на временную
разлуку с моим талантливым и блестящим другом без острой боли личного страдания
среди свадебного веселья.
— Мои мысли с вами обоими во время вашего
путешествия, — сказал он. — А когда вы вернетесь, я буду одним из
первых, чтобы поздравить вас с благополучным возвращением домой. Ваш house-party
«Прием гостей (англ.).» назначен на сентябрь, мне помнится.
— Да, и вы будете самым желанным гостем из всех
приглашенных, — ответил я задушевно, пожимая ему руку.
— Фи, стыдно! — возразил он, смеясь. — Не
кривите душой, Джеффри! Не собираетесь ли вы пригласить принца Уэльского, и
будет ли кто-нибудь более «желанным», чем он! Нет, я должен занять третье или
четвертое место в списке, где помещена королевская особа. Мое владение, увы, не
Уэльс, и престол, на какой я мог бы претендовать, — если бы кто-нибудь
нашелся мне помочь, но у меня никого нет, — далеко удален от престола
Англии.
Сибилла ничего не говорила, но ее глаза были устремлены на
его красивое лицо и прекрасную фигуру со странным вниманием и задумчивостью, и
она была очень бледна.
— Прощайте, леди Сибилла! — ласково прибавил
он. — Желаю вам всех благ. Нам, остающимся здесь, ваше отсутствие
покажется долгим, — но вам… Ах, любовь дает крылья времени, и то, что для
обыкновенного человека будет месяцем скучной жизни, для вас будет упоительным мгновением.
Любовь лучше богатства, я знаю, вы уже это открыли, но я думаю и надеюсь, что
вам предназначено узнать это совершеннее и полнее. Думайте иногда обо мне. Au
revour.
Лошади рванулись; горсть риса, брошенная идиотом из
общества, присутствующим всегда на свадьбах, с треском ударилась о дверцы и
крышу кареты, и Лючио отступил назад, делая прощальный знак рукой. Мы видели
его до последней минуты: его высокая статная фигура выделялась на лестнице дома
графа Эльтона, окруженная ультра-светской толпой… Там стояли подруги невесты, в
светлых платьях и живописных шляпах, — молодые девушки с возбужденным
видом; каждая из них, без сомнения, страстно желала, чтоб настал день, когда и
она приобретет себе такого же богатого мужа, каким был я… Свахи-маменьки и злые
старые вдовы показывали драгоценные кружева на своих объемистых бюстах и
сверкали бриллиантами… Мужчины с белыми бутоньерками, приколотыми к их
безупречно сидящим фракам;
Слуги в ярких ливреях и обычная уличная толпа праздных
зевак, — вся эта куча лиц, костюмов и цветов столпилась перед портиком из
серого камня, и посреди мрачная красота лица Лючио и блеск его горящих глаз
делали его выдающимся предметом и главным центром притяжения. Карета повернула
за угол, лица исчезли, и Сибилла и я поняли, что отныне мы остались одни —
одни, чтобы стать лицом к лицу с грядущим и с собой и чтобы учить урок любви…
или ненависти… вместе навсегда.
|


