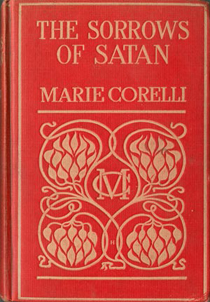
 Увеличить Увеличить |
X
Как только игра, за которой мы следили, окончилась, игроки
встали и приветствовали Лючио с большим рвением и излиянием своих чувств. Я
инстинктивно угадал по их обращению, что они смотрели на него как на влиятельного
члена клуба — на лицо, могущее дать им взаймы и всячески помочь им в финансовом
отношении. Он представил меня всем им, и мне нетрудно было заметить, какой
эффект произвело мое имя на большинство из них. Меня попросили присоединиться к
игре в баккара, и я тотчас согласился. Ставки были разорительно высоки, но меня
это ничуть не пугало. Один из игроков около меня был светловолосый молодой
человек, красивый и аристократического рода. Его мне представили как виконта
Линтона. Я обратил на него особенное внимание из-за его беспечной манеры
удваивать свои ставки, по-видимому, только ради бравады, и когда он проигрывал,
что случалось чаще всего, он шумно хохотал, как если б он был пьян или в бреду.
Сначала я был совершенно равнодушен к результатам игры и ничуть не заботился,
буду ли я в выигрыше или проигрыше. Лючио не присоединился к нам, но сидел
поодаль, спокойно наблюдая и, как мне казалось, следя более за мной, чем за
другими. По счастливой случайности, мне везло, и я постоянно выигрывал. И чем
больше я выигрывал, тем больше я становился возбужденным, пока вдруг мое
настроение не изменилось, и меня охватило причудливое желание проиграть. Я
думаю, что это был толчок лучшего побуждения в моей натуре, заставляющий меня
этого желать ради молодого виконта, так как он казался буквально обезумевшим от
моих постоянных выигрышей и продолжал свою отчаянную игру. Его лицо вытянулось
и похудело, и его глаза лихорадочно блестели. Другие игроки, хотя разделявшие
его несчастную полосу, по-видимому, спокойнее это переносили, или, может быть,
они искуснее скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но я от души желал,
чтобы мое дьявольское везение перешло на сторону молодого Линтона. Но мое
желание было напрасно: опять и опять я забирал все куши, пока, наконец, игроки
встали, и виконт Линтон с ними.
— Дочиста проигрался! — сказал он с насильственным
громким смехом. — Вы должны завтра дать мне реванш, м-р Темпест!
Я поклонился.
— С удовольствием!
Он позвал человека и велел принести себе коньяку и содовой
воды, а тем временем меня окружили остальные, горяча настаивая на необходимости
вернуться мне на следующий вечер в клуб и дать им возможность отыграть то, что
сегодня они потеряли. Я тотчас согласился, и в то время, когда мы были в
разгаре разговора, Лючио вдруг обратился к молодому Линтону:
— Не хотите ли сыграть со мной? Я заложу банк вот
этим. — И он положил на стол два скрученных банковых билета по пятьсот
фунтов каждый.
Один момент все молчали.
Виконт жадно пил коньяк с содовой водой и взглянул на билеты
через край высокого стакана алчными, налитыми кровью глазами, котом равнодушно
пожал плечами.
— Я ничего не могу поставить, я уже сказал вам, что я
дочиста проигрался, я не могу больше играть.
— Садитесь, садитесь, Линтон! — настаивал один
господин, стоявший вблизи него. — Займите у меня и играйте.
— Благодарю, — возразил тот, слегка
вспыхнув, — я и так уж слишком много вам должен. Во всяком случае, это
очень хорошо с вашей стороны. Вы продолжайте, господа, а я посмотрю.
— Позвольте мне уговорить вас, виконт, — промолвил
Лючио, глядя на него со своей загадочной улыбкой, — только для
удовольствия! Если вы не можете поставить денег, поставьте какой-нибудь пустяк,
что-нибудь номинальное только для того, чтоб увидеть, повернется ли к вам
счастие. — И он достал марку.
— Это часто изображает пятьдесят фунтов; пусть она
изобразит на этот раз нечто более ценное, чем деньги, — вашу душу,
например!
Раздался взрыв хохота.
Лючио смеялся вместе со всеми.
— Я надеюсь, что мы все настолько просвещены
современными науками, что не признаем существования такой вещи, как
душа, — продолжал он, — поэтому, предложив ее, как ставку, я, в
сущности, предложил меньше, чем один волосок из вашей головы, потому что
волосок есть нечто, а душа есть ничто! Хотите рискнуть этой несуществующей
величиной на удачу выиграть тысячу фунтов?
Виконт выпил коньяк до последней капли и повернулся к нам.
Его глаза горели насмешливо и вызывающе.
— Ладно! — воскликнул он.
Между тем компания уселась. Игра была коротка и в своей
быстроте ажитации почти безжизненна. Достаточно было шести-семи минут, и Лючио
встал победителем. Он улыбнулся, указывая на манку, изображающую последнюю
ставку виконта Линтона.
— Я выиграл! — сказал он спокойно. — Но вы
мне ничего не должны, дорогой виконт, так как вы рисковали «ничем»! Мы играли
только для удовольствия. Если б душа существовала, я бы, конечно, потребовал
вашу; между прочим, сомневаюсь, что бы я с ней делал!
И он засмеялся.
— Что за глупости, не правда ли! И как мы должны быть
благодарны, что живем в передовые дни, когда подобные глупые суеверия дали
место прогрессу и чистому разуму! Покойной ночи! Завтра Темпест и я дадим вам
полный реванш, — безусловно, счастие переменится, и вы, наверное, одержите
победу. Еще раз, покойной ночи!
Он протянул свою руку; трогательная нежность светилась в его
темных глазах; в его манере была поразительная кротость. Что-то, я не мог
определить — что, держало нас всех с минуту точно очарованными. Многие игроки
на других столах услышали об эксцентричной ставке и теперь смотрели на нас
издали с любопытством. Между тем виконт Линтон по наружному виду был чрезмерно
весел и горячо пожал протянутую руку Лючио.
— Вы удивительно хороший человек, — сказал он,
говоря немного часто и торопливо. — И уверяю вас серьезно, что, если бы у
меня была душа, я бы с удовольствием отдал ее за тысячу фунтов в настоящий
момент. Душа была бы для меня бесполезна, а тысяча фунтов мне бы очень
пригодилась. Но я убежден, что выиграю завтра!
— И я в этом уверен, — ласково проговорил
Лючио. — Тем временем вы не найдете моего друга, Джеффри Темпеста тяжелым
кредитором — он может ждать. Но, что касается проигранной души, — здесь он
остановился, пристально глядя в глаза молодого человека, — то, конечно, я
не могу ждать!
Виконт неопределенно улыбнулся на эту шутку и почти
немедленно вслед затем оставил клуб.
Как только дверь за ним закрылась, многие из игроков
обменялись многозначительными взглядами и кивками.
— Разорен! — сказал один из них вполголоса.
— Его карточные долги превышают сумму, какую он в
состоянии заплатить, — прибавил другой, — и я слышал, что он потерял
пятьдесят тысяч на скачках.
Эти замечание были сделаны так равнодушно, как будто бы
говорили о погоде. Каждый игрок был до мозга костей себялюбив, и пока я
наблюдал их черствые лица, дрожь благородного негодования пробежала по мне,
негодования смешанного со стыдом. Я не был еще совершенно притупленным и
жестокосердным, хотя, оглядываясь на те дни, которые теперь мне кажутся скорее
похожими на странный призрак, чем на действительность, я сознаю, что с каждым
прожитым часом я делался все более и более грубым эгоистом. Но я еще был так
далек от явной подлости, что внутренне я решил написать виконту Линтону в тот
же вечер, что я отказываюсь требовать его долг. Когда эта мысль пронеслась в
моем мозгу, я невольно посмотрел на Лючио и встретил его пристальный испытующий
взгляд. Он улыбнулся и тотчас сделал мне знак следовать за ним. Через несколько
минут мы вышли из клуба и очутились на холодном ночном воздухе, под небом, где
ледяной холодностью сверкали звезды. Мой товарищ положил свою руку мне на
плечо.
— Темпест, если вы намерены быть добросердечным и
сочувствовать негодяям, я разойдусь с вами! — сказал он со странным
смешением иронии и серьезности в голосе. — Я вижу по выражению вашего
лица, что вы замышляете какой-нибудь бескорыстный поступок чистого великодушия.
Вы хотите освободить Линтона от его долга — вы напрасно беспокоитесь. Он
родился негодяем и никогда не стремился сделаться чем-нибудь другим. Почему вы
должны сочувствовать ему? С первых же дней по выходе из коллегиума до сей поры
он ничего не делал, как только жил беспутной чувственной жизнью; он —
недостойный развратник и заслуживает меньше уважения, чем честный пес!
— Все же, я полагаю, кто-нибудь любит его! —
сказал я.
— Кто-нибудь любит его! — повторил Лючио с
неподражаемым презрением. — Ба! Три балерины живут за его счет, если вы
это хотели сказать. Его мать любила его, но она умерла: он разбил ее сердце. Он
негодный, говорю вам; пусть он сполна заплатит свой долг, включая и душу,
которую он так легко поставил на карту. Если б я был дьяволом и выиграл эту
оригинальную душу, я думаю, что, согласно с традициями священников, я бы с
ликованием разложил огонь для Линтона, но, будучи тем, что есть, я говорю:
пусть человек сам готовит себе судьбу, пусть все идет своим течением, и как он
рискнул всем, пусть всем и заплатит.
В это время мы медленно шли по Пэл-мэл; я только собирался
ответить, как на противоположной стороне заметил человеческую фигуру, недалеко
от Marlborough Club. Я не мог удержаться от невольного восклицания.
— Он там! Виконт Линтон там!
Рука Лючио крепко держала мою.
— Само собой разумеется, вы не будете с ним теперь
разговаривать!
— Нет. Но мне бы хотелось знать, куда он направляется.
Он идет не совсем твердо.
— Пьян, вероятно!
И лицо Лючио приняло то самое неумолимое выражение
презрения, которое я часто видел и дивился ему. Мы на секунду остановились,
следя за виконтом, который бесцельно бродил взад вперед перед клубом, пока,
по-видимому, не пришел к внезапному решению и, остановившись, крикнул: «Кэб!»
Изящный экипаж на бесшумных колесах немедленно подкатил. Он
прыгнул в него, дав приказание кучеру. Кэб быстро приближался по нашему
направлению; едва он проехал мимо нас, как громкий пистолетный выстрел раздался
среди тишины.
— Господи! — воскликнул я, пошатнувшись, — он
застрелился!
Кэб остановился. Кучер спрыгнул с козел; клубные швейцары,
лакеи, полицейские и множество народа, появившегося, Бог ведает — откуда, в
один момент, уже толпились там. Я бросился вперед, чтобы присоединиться к
быстро собравшейся толпе, но прежде, чем я мог это сделать, сильная рука Лючио
обвилась вокруг меня, и он оттащил меня изо всей силы назад.
— Будьте хладнокровны, Джеффри! — сказал
он, — вы хотите предать клуб и всех его членов? Обуздайте свои безумные
порывы, мой друг: они приведут вас к бесконечным неприятностям. Если человек
умер — он умер, и всему конец.
— Лючио, у вас нет сердца! — воскликнул я, с
отчаянием отбиваясь, чтоб вырваться из его рук. — Как можете вы рассуждать
в подобном случае! Подумайте! Я — причина всего этого зла! Мое проклятое
счастие в баккара было последним ударом в судьбе несчастного молодого человека.
Я убежден в этом! Я никогда себе не прощу.
— Честное слово, Джеффри, ваша совесть слишком
мягка! — сказал он, держа мою руку еще крепче и торопясь увести меня
против моей воли. — Вы должны постараться укрепить ее, если хотите иметь
успех в жизни. Вы думаете, что ваше «проклятое счастие» причинило смерть
Линтону? Во-первых, называть счастие «проклятым» — противоречие в терминах;
во-вторых, виконт не нуждался в этой последней игре в баккара для своего
окончательного разорения. Вас не в чем винить. И ради клуба, если не ради чего
другого, я не намерен впутывать ни вас, ни себя в историю самоубийства. Коронер
всегда оповещает подобные случаи в двух словах: «Временное умопомешательство».
Я вздрогнул; моя душа болела от мысли, что в нескольких
шагах от нас лежало окровавленное тело человека, с которым так недавно я еще
разговаривал, и, несмотря на слова Лючио, я признавал себя его убийцей.
— «Временное умопомешательство», — повторил Лючио,
как бы говоря сам с собой. — Угрызения совести, отчаяние, поруганная
честь, разрушенная любовь, вместе с современной научной теорией о разумной
ничтожности: жизнь — ничто, Бог — ничто, когда все это заставляет обезумевшую
человеческую единицу сделать из себя также ничто; «временное умопомешательство»
извиняет его погружение в бесконечность. Верно сказал Шекспир, что свет —
сумасшедший!
Я ничего не отвечал. Я был охвачен своими собственными
горестными ощущениями. Я шел почти бессознательно, и когда я взглянул на
звезды, они прыгали и кружились перед моими глазами. Вдруг слабая надежда
озарила меня.
— Может быть, — сказал я, — он, в сущности не
убил себя? Это могла быть лишь попытка?
— Он считался первоклассным стрелком, — возразил
Лючио спокойно. — Это было его единственное качество. У него не было
принципов, но стрелял он метко. Я не могу себе представить, чтоб он не попал в
цель.
— Это ужасно! Час тому назад жить… а теперь… говорю
вам, Лючио, это ужасно!
— Что? Смерть? Она и наполовину не так ужасна, как
жизнь, ложно прожитая, — ответил он с серьезностью, которая произвела на
меня сильное впечатление, несмотря на мое душевное волнение и
возбужденность. — Поверьте мне, что нравственная боль и стыд преднамеренно
бесчестного существования много хуже мук изображаемого священниками ада.
Пойдемте, пойдемте, Джеффри, вы принимаете слишком близко к сердцу эту историю,
вас винить не в чем. Если Линтон «счастливо покончил» с собой, это — лучшее,
что он мог сделать. Он был для всех бесполезен. Положительно с вашей стороны
большая слабость придавать большое значение такому пустяку. Вы только в начале
вашей карьеры.
— И надеюсь, что эта карьера не приведет меня более к
подобным трагедиям, как сегодняшняя, — страстно проговорил я. — Если
же это случится, это будет совершенно против моей воли!
Лючио пытливо посмотрел на меня.
— Ничего не может случиться против вашей воли. Мне
кажется, что вы хотите меня обвинить в том, что я привел вас в клуб? Мой друг,
вы бы не пошли туда, если б сами не хотели! Разве я вас тащил туда связанным?
Вы взволнованы и нервны, пойдемте ко мне и выпейте стакан вина. Вам это придаст
больше твердости.
Между тем мы дошли до отеля, и я беспрекословно пошел за
ним, беспрекословно выпил то, что он мне дал и стоял со стаканом в руке, следя
за ним с болезненном очарованием, пока он сбрасывал свое подбитое мехом пальто.
Затем он остановился передо мной; его бедное прекрасное лицо было сурово, и
темные глаза блестели, как холодная сталь.
— Та последняя ставка Линтона… вам, — сказал я,
запинаясь, — его душа…
— В которую ни он, ни вы не верите! — заметил
Лючио. — Вы, кажется, теперь дрожите от пустой сентиментальной идеи?
— Но вы, — начал я, — вы говорите, что верите
в душу?
Я? Я сумасшедший! — И он горько засмеялся. — Разве
вы до сих пор не нашли этого? Наука сделала мой ум больным, мой друг! Он привел
меня к такому глубокому источнику горестных открытий, что не мудрено, если мои
чувства иногда путаются, и в эти безумные моменты я верю в душу!
Я тяжело вздохнул.
— Я хочу пойти спать, я чувствую себя усталым и
абсолютно несчастным!
— Увы, бедный миллионер! — сказал ласково
Лючио. — Уверяю вас, мне жаль, что вечер закончился так злополучно.
— И мне также жаль! — повторил я уныло.
— Подумать! — продолжал он, мечтательно глядя на
меня, — если б мои верования, мои безумные теории стоили б чего-нибудь, я
бы мог потребовать единственную несомненно существующую частицу вашего
покойного знакомого виконта Линтона. Но где и как свести с ним счеты? Будь я
теперь сатаной…
Я принудил себя слабо улыбнуться.
— Вы бы торжествовали! — сказал я.
Он придвинулся ко мне и ласково положил свои руки на мои
плечи.
— Нет, Джеффри, — и его властный голос зазвучал
нежными нотами, — нет, друг мой! Будь я сатаной, я бы наверно горевал!
Потому что каждая погибшая душа напомнила бы мне мое собственное падение, мое
собственное отчаяние и составила бы новое препятствие между мной и небом!
Помните — сам дьявол был некогда ангелом!
Его глаза улыбались, но я бы мог поклясться, что в них
блестели слезы. Я крепко сжал его руку; я чувствовал, что, несмотря на его
цинизм и наружную холодность, судьба молодого Линтона глубоко его тронула. От
этого впечатления моя симпатия к нему приобрела новую силу, и я пошел спать
более примиренный с собой и с обстоятельствами вообще. В продолжение нескольких
минут, пока я раздевался, я даже был в состоянии размышлять о вечерней трагедии
с меньшим сожалением и с большим спокойствием, так как, безусловно, терзаться
над непреложным было бесполезно. И, в конце концов, какой интерес представляла
для меня жизнь виконта? Никакого.
Я начал смеяться над своей слабостью и возбужденностью и,
будучи страшно утомленным, повалился в постель и моментально уснул. К утру,
может быть, часов в пять, я вдруг проснулся, точно от прикосновения невидимой
руки. Я весь дрожал, обливаясь холодным потом. Обыкновенно темная комната
освещалась странным светом, точно облаком белого дыма или огнем. Я поднялся,
протирая себе глаза, — и один момент смотрел с ужасом вперед, сомневаясь в
ясности своих чувств, так как совершенно явственно и отчетливо, на расстоянии
шагов пяти от постели, я видел три стоящие фигуры, закутанные в темные одежды с
выдвинутыми капюшонами. Они были так торжественно неподвижны, их черная
драпировка так тяжело падала вокруг них, что не было возможности сказать, были
ли они мужчины или женщины; но что парализовало меня изумлением и ужасом — это
был странный окружавший их свет: прозрачное, блуждающее, холодное сияние
освещало их, как лучи бледной зимней луны. Я пытался крикнуть, но мой язык
отказался мне повиноваться, и мой голос застрял в горле.
Все трое оставались абсолютно неподвижными, и снова я протер
глаза, дивясь, был ли это сон или галлюцинация. Дрожа всем телом, я протянул
руку к звонку с намерением неистово звонить на помощь, как вдруг голос, тихий и
звучащий невыразимой тоской, заставил меня в смятении откинуться назад, и моя
рука бессильно упала.
— Горе!
Слово резким неприятным звуком потрясло воздух, и я почти
лишился чувств от ужаса, так как теперь одна из фигур пошевельнулась, и ее лицо
светилось из-под закутывавших его покрывал, — белое лицо, как самый белый
мрамор, и с таким страшным выражением отчаяния, что моя кровь заледенела в
жилах. Послышался глубокий вздох, более похожий на предсмертный стон, и опять
слово: «Горе!» — нарушило тишину.
Обезумевший от страха и едва сознавая, что я делал, я
соскочил с кровати, бешено кинулся к этим фантастическим замаскированным
фигурам, решив схватить их и спросить, что значит эта глупая и неуместная
шутка. Как неожиданно все трое подняли головы и повернули лица в мою сторону!
Какие лица! Неописано страшные в своей бледной агонии. И шепот, более ужасный,
чем пронзительный крик, проник в самые фибры моего сознания: «Горе!».
Бешеным прыжком я бросился на них; мои руки ударили пустое
пространство. Между тем, там, так же явственно, они стояли, грозно смотря на
меня, пока мои сжатые кулаки бессильно били их кажущиеся телесными образы! И
затем я вдруг увидел их глаза — глаза, следящие за мной зорко, безжалостно,
презрительно, — глаза, которые, как волшебные огни, медленно жгли мое тело
и дух. Потрясенный, почти разъяренный от нервной напряженности, я предался
отчаянию; я думал, что это ужасное видение предвещало смерть — наверно, пришел
мой последний час! Затем я увидел, что губы одного их этих страшных лиц
шевельнулись… Мною овладела какая-то сверхъестественная жажда жизни… Странным
образом я знал или угадал ужас того, что будет сказано… И, собрав все свои
оставшиеся силы, я крикнул:
— Нет! Нет! Не надо еще того вечного суда! Нет!
Борясь с пустым воздухом, я старался оттолкнуть эти
неосязаемые образы, которые, возвышаясь надо мной, съедали мою душу пристальным
взглядом своих гневных глаз, и с подавленным зовом на помощь я упал как бы в
темную пропасть без чувств.
|


