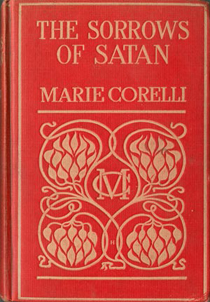
 Увеличить Увеличить |
XXVII
Мы окончили наше свадебное путешествие ранее, чем мы вначале
предполагали, и возвратились в Англию, в Виллосмирский замок, около половины
августа.
Смутная идея бродила во мне, давая мне некоторого рода
утешение, и это было то, что я намеревался свести вместе мою жену с Мэвис Клер,
надеясь, что благотворное влияние грациозного и счастливого создания, которое,
как радостная птичка в своем гнездышке, невозмутимо жило в маленьком домике,
так близко от моего собственного, могло оказать смягчающее и целительное
действие на безжалостную любовь Сибиллы к анализу и презрение ко всем
благородным идеалам. В Варвикшире в это время жара стояла чрезвычайная; розы
были в полном расцвете своей красоты, и густая листва дубов и кедров в парках
давала приятную тень и отдых усталому телу, а спокойная прелесть лугов
услаждала усталую душу.
В конце концов, нет ни одной страны на свете прекраснее
Англии, — ни одной, так богато наделенной зелеными лесами, яркими цветами;
ни одна не может похвалиться более поэтическими уголками для уединения и
мечтаний. В Италии, в стране, воспетой историческими, бьющими на эффект
поэтами, которые глупо считали ее единственной страной, достойной прославления,
поля чахлые и черные, выжженные слишком палящим солнцем; там нет тенистых
проселков, какими Англия может похвастаться на всех своих берегах, и мания
итальянцев безжалостно рубить красивейшие деревья не только повредила климату,
но до того испортила ландшафт, что трудно поверить в ее однажды знаменитую, до
сих пор ошибочно прославляемую прелесть. Такого красивого местечка, каким был
Лилия-коттедж в душном августе, нельзя было отыскать на всей длине и ширине
Италии.
Мэвис сама заботилась о своем саде; у нее было два
садовника, которые по ее указаниям постоянно поливали траву и деревья, и
невозможно было представить себе что-нибудь более очаровательное, чем
живописный в старинном вкусе дом, покрытый розами и пучками жасмина, которые,
казалось, перевязывали крышу узлами и гирляндами; вокруг здания расстилался
изумрудный луг с беседками из густой зелени, где самые музыкальные певчие птицы
находили убежище и наслаждение, и где по вечерам компания соловьев поддерживала
журчащий фонтан восхитительной мелодии. Я хорошо помню один день, теплый, тихий
и томительный, когда я повел Сибиллу к женщине-автору, которою она так давно
восторгалась. Жара была так велика, что в наших парках птицы молчали, но когда
мы подошли к Лилия-коттеджу, первое, что мы услышали, было щебетание дрозда
где-то наверху между розами — нежное, плавное, выражающее «сладкое довольство»,
перемешанное с глухим воркованием голубей-"критиков", которые
обсуждали все то, что нравилось им, в отдалении.
— Какое прелестное место! — сказала моя жена,
отворяя калитку и проходя мимо пахучей живой изгороди из жимолости и
жасмина. — В самом деле, оно красивее, чем Виллосмир! Удивительно, как оно
прекрасно!
Нас провели в гостиную, и Мэвис, ожидавшая наш визит, не
заставила себя долго ждать. Когда она вышла, одетая в белую прозрачную материю,
мягко облегающую ее красивый стан, с поясом из простой ленты, странная
болезненная тоска защемила в моем сердце. Прелестное безмятежное лицо, веселые
и вместе с тем мечтательные глаза, чувствительный рот и в особенности светлый
взгляд счастия, придающий ее чертам такое ясное и пленительное выражение,
говорили мне, чем женщина должна быть и чем, чаще всего, она не была.
И я ненавидел Мэвис Клер!
Я даже поднял перо, чтоб нанести ей удар посредством
анонимной критики! Но это было прежде, чем я узнал ее, прежде, чем я понял, что
могла существовать некоторая разница между ней и пугалами в юбках, часто выдающими
себя за «романисток», не умеющими правильно писать по-английски и говорящими в
обществе о своих сочинениях с развязностью, заимствованной от Граб-стрит и
дешевых ресторанов для журналистов. Да, я ненавидел ее… А теперь… теперь я
почти любил ее. Сибилла, высокая, царственная и прекрасная, смотрела на нее
глазами, выражающими как удивление, так и восхищение.
— Подумать, что вы знаменитая Мэвис Клер! —
сказала она, улыбаясь и протягивая руку. — Я слышала и знала, что вы не
выглядите литераторшей, но я никогда не представляла себе, что вы могли быть
такой, какою я вас вижу.
— Выглядеть литераторшей не всегда означает, что вы
действительно литераторша, — возразила Мэвис, засмеявшись. — Очень
часто вы встретите женщин, которые прилагают все усилия, чтобы выглядеть
литераторшами и не имеют понятия о литературе. Но как я рада видеть вас, леди
Сибилла! Знаете ли, я наблюдала за вашими играми на лугу, в Виллосмире, когда я
была совсем маленькой девочкой.
— А я наблюдала за вами, — ответила
Сибилла, — вы делали цепи из маргариток и шары из буквицы в поле, на
другом берегу Авона. Для меня большое удовольствие, что мы соседи. Вы должны
часто бывать у меня, в Виллосмире.
Мэвис ответила не тотчас, она была занята разливанием чая.
Сибилла заметила это и ласково повторила свои слова.
— Вы будете бывать, не правда ли? И чем чаще, тем
лучше. Мы должны быть друзьями, знаете!
Тогда Мэвис подняла глаза, в которых светилась милая
искренняя улыбка.
— Вы в самом деле этого хотите? — спросила она.
— Хочу ли я? — повторила Сибилла. — Ну да,
конечно, хочу!
— Как вы можете сомневаться в этом? — воскликнул
я.
— Вы меня простите, что я задала такой вопрос, —
сказала, все еще улыбаясь, Мэвис, — но, видите ли, вы теперь, что
называется, магнаты графства, а магнаты графства считают себя бесконечно выше
всех авторов.
Она засмеялась, и ее синие глаза блестели весельем.
— Я думаю, многие из них уважают писателей книг, как
некий странный отпрыск человеческого рода, который только приличен. Это очень
забавно, тем не менее из всех моих недостатков самый крупный, мне кажется,
гордость и ужасно упрямый дух независимости. По правде сказать, я была
приглашаема многими из так называемой «знати», и когда я ездила, я,
обыкновенно, досадовала за это после.
— Почему? — спросил я. — Они делали себе
честь, приглашая вас.
— О, я не думаю, что они это так считали! —
ответила она, важно тряхнув своей светлой головкой. — Они воображают, что
совершали великий подвиг снисхождения, хотя в действительности это я снизошла,
так как с моей стороны поистине было милостиво покинуть общество Афины-Паллады
в моем кабинете для общества расфранченных и завитых фешенебельных дам.
Ясная улыбка опять осветила ее лицо, и она продолжала:
— Однажды я была приглашена на завтрак к барону и
баронессе, которые позвали нескольких гостей, чтобы «встретиться со мной», как
они сказали. Я была представлена только двум или трем из них; остальные сидели
и смотрели на меня, как если б я была новым сортом рыбы или птицы. Затем барон
показал мне свой дом и говорил мне цены своих картин и фарфора; он был даже
настолько добр, что объяснил, какие были дрезденского произведения, и какие
дельфтского, хотя я думаю, что, несмотря на мое невежество автора, я могла бы
просветить его как в том, так и в другом. Тем не менее я любезно улыбалась в
течение целой программы и старалась показаться очарованной и восхищенной; но
они больше никогда меня вовсе не приглашали, и, если только они в самом деле
хотели поразить меня каталогом их домашней утвари, я не могу понять, зачем они
меня приглашали и что я такое сделала, чтоб больше никогда не быть
приглашенной!
— Это были, должно быть, какие-нибудь парвеню, —
сказала с негодованием Сибилла. — Благовоспитанные люди никогда не станут
оценивать вам свое имущество, если только они не евреи.
Мэвис засмеялась веселым смехом, похожим на звон
колокольчиков; затем она продолжала:
— Я не скажу, кто они были; я должна приберечь
что-нибудь для моих литературных воспоминаний, когда состарюсь. Я вам
рассказала инцидент только для того, чтобы объяснить, почему я спросила вас:
действительно ли вы этого хотите, когда приглашаете меня в Виллосмир.
Барон и баронесса, о которых я говорила, до такой степени
«рассыпались» передо мной и моими книжками, что вы смело могли бы подумать, что
я сделаюсь для них навсегда самым дорогим другом, — между тем они не
предполагали этого. Я знаю, иные дамы обнимают меня, изливаются в своих
чувствах и приглашают меня к себе, а думают совсем иначе. Открывая это
притворство, я не ищу ни объятий, ни приглашений и не только не считаю за
«милость», когда меня приглашают некоторые из высшей аристократии, но скорее
думаю, что «милость» будет с моей стороны, если я приму приглашение. Я не
говорю это лично за себя: лично я ничего не значу; но я говорю и ревностно
защищаю это ради достоинства литературы как искусства и профессии. Если б
другие авторы поддержали это положение, мы бы могли поднять литературное знамя
до той высоты, на какой оно было в старые дни Скотта и Байрона. Надеюсь, вы
меня не считаете слишком гордой?
— Наоборот, я считаю, что вы совершенно правы, —
сказала горячо Сибилла. — И я преклоняюсь перед вами за вашу независимость
и мужество; я знаю, что некоторые из аристократии до того вульгарны, что мне
часто делается стыдно принадлежать к ней. Но могу вас уверить, что если вы
окажете нам честь сделаться нашим другом, вы не пожалеете об этом. Попробуйте
полюбить меня, если можете.
Она наклонилась вперед с чарующей улыбкой на прекрасном
лице. Мэвис смотрела на нее серьезно и с восхищением.
— Как вы красивы! — откровенно сказала она. —
Конечно, вам все это говорят, однако не могу не присоединиться к общему хору.
Для меня красивое лицо подобно красивому цветку: я должна восхищаться им.
Красота есть нечто божественное, и хотя мне часто говорят, что некрасивые люди
— всегда хорошие люди, я не могу вполне поверить этому. Наверно, природа дает
прекрасное лицо прекрасной душе.
Сибилла, которая приятно улыбалась на первые слова
комплимента, сказанного ей одною из самых талантливых женщин, теперь густо
покраснела.
— Не всегда, мисс Клер, — сказала она, скрывая
свои блестящие глаза под сенью длинных ресниц. — Можно представить себе
так же легко красивого злого духа, как и красивого ангела.
— Правда!
И Мэвис задумчиво посмотрела на нее, потом, вдруг
засмеявшись своим веселым, серебристым смехом, она добавила:
— Совершенная правда! Я не мечу рисовать себе
безобразного злого духа, так как предполагается, что злые духи бессмертны, а я
убеждены, что бессмертное безобразие не принимает участия в мире. Очевидное
безобразие принадлежит только одному человечеству, и некрасивое лицо — такое
пятно на творении, что мы можем только утешать себя размышлением, что, к
счастью, оно тленно, и что, конечно, со временем находящаяся в нем душа
избавится от безобразной формы скорлупы и достигнет более красивой оболочки.
Да, леди Сибилла, я приду в Виллосмир; я не могу отказаться от случая
любоваться такой красотой, как ваша.
— Вы очаровательно льстите мне! — сказала Сибилла,
вставая и обнимая ее рукой с той лаской и нежностью, которые казались такими
искренними и которые так часто ничего не значили. — Но я признаюсь, что я
предпочитаю выслушать лесть от женщины, чем от мужчины. Мужчины то же самое
говорят всем женщинам, у них весьма ограниченный репертуар комплиментов, и они
скажут уроду, что она красавица, если в этом они видят для себя непосредственную
выгоду. Но сами женщины с трудом допускают существование друг в друге хороших
качеств, внешних или внутренних, так что когда они отзываются милостиво или
великодушно о своем собственном поле, это чудо заслуживает сохраниться в
памяти. Могу я видеть ваш рабочий кабинет?
Мэвис охотно согласилась, и мы все трое вошли в мирное
святилище, где председательствовала Афина-Паллада, и где расположились обе
собаки — Трикси и Император. Император сидел и смотрел на перспективу из окна,
а Трикси в некотором отдалении с важным видом подражала позе своего большого
товарища. Оба дружелюбно встретили меня и мою жену, и пока Сибилла, гладила
громадную голову сенбернара, Мэвис вдруг спросила:
— Где ваш друг, который был с вами здесь в первый раз,
князь Риманец?
— Он в Петербурге теперь, ответил я, — но мы
ожидаем его сюда недели через две-три.
— Наверно, он необыкновенный человек, — сказала
задумчиво Мэвис, — вы помните, как странно вели себя мои собаки по
отношению к нему. Император оставался неспокойным несколько часов после его
ухода.
И в коротких словах она рассказала Сибилле инцидент о
нападении сенбернара на Лючио.
— Некоторые имеют естественную антипатию к
собакам, — сказала Сибилла, — и собаки всегда чувствуют это и
отплачивают тем же. — Но я бы не подумала, что князь Риманец питает
антипатию к другим существам, кроме женщин.
И она засмеялась несколько горько.
— Кроме женщин! — повторила с удивлением
Мэвис. — Он ненавидит женщин! Тогда он должен быть актером, так как ко мне
он был удивительно ласков и добр.
Сибилла пристально на нее посмотрела и с минуту молчала.
Затем она сказала:
— Может быть, это потому, что он знает, как вы не
похожи на обыкновенных женщин и не имеете общего с их обычными мишурными
стремлениями. Конечно, он всегда учтив с нами, но мне думается, легко видеть,
что его учтивость часто не более, как маска, скрывающая совсем иные чувства.
— Ты, значит, это заметила, Сибилла? — спросил я с
легкой улыбкой.
— Я была бы слепой, если б не заметила, — однако я
не порицаю его за это странное отвращение, я думаю, оно делает его более
привлекательным и интересным.
— Он ваш большой друг? — спросила Мэвис, взглянув
на меня.
— Самый большой друг, какого я имею! — был мой
быстрый ответ. — Я должен ему больше, чем когда-либо могу отплатить; даже
я познакомился с моей женой благодаря ему.
Я говорил, не думая и шутливо, но когда я произнес эти
слова, неожиданный удар поразил мои нервы — удар мучительного воспоминания. Да,
это правда. Я был обязан ему, Лючио, несчастием, страхом, унижением и стыдом
иметь такую женщину, как Сибилла, связанную со мной, пока смерть не разъединит
нас. Я почувствовал себя нехорошо, моя голова кружилась, и я опустился на один
из дубовых стульев, стоявших в рабочем кабинете Мэвис Клер. Между тем обе
женщины вышли вместе в сад через французское открытое окно-дверь, и собаки
последовали за ними. Я смотрел на них: моя жена — высокая, статная, разодетая
по последней моде; Мэвис — маленькая, легкая, в своем мягком белом платье, с
поясом из гладкой ленты; одна — чувственная, другая — одухотворенная; одна —
низкая и порочная в желаниях, другая — с чистой душой и стремящаяся к
благороднейшим целям. Одна — физически великолепное животное; другая только с
нежным лицом и идеально прелестная, как лесной эльф. И глядя я всплеснул руками
и с горечью подумал, какую ошибку я сделал в выборе. В глубине эгоизма,
составлявшего всегда часть моей натуры, я теперь положительно верил, что я мог
бы жениться на Мэвис Клер, не допуская мысли, что все мое богатство оказалось
бы бесполезным для этой цели, и что я мог бы с одинаковым результатом
предполагать добыть звезду с неба, как и одержать победу над женщиной, которая
могла основательно читать мою натуру и которая никогда бы не спустилась до
уровня денег со своего интеллектуального трона, — нет, хотя бы я был монархом
многих народов!
Я взирал на крупные спокойные черты Афины-Паллады, и белые
глазные яблоки мраморной богини, казалось, в свою очередь, глядели на меня с
бесчувственным презрением. Я оглядел кругом комнату и стены, украшенные мудрыми
словами поэтов и философов, словами, напоминавшими мне об истинах, которые я
знал, а между тем никогда не применял практически; и вдруг мои глаза упали на
угол вблизи письменного стола, где горела маленькая тусклая лампада. Над
лампадой висело Распятие из слоновой кости, белевшее на драпировках из
темно-красного бархата; под ним, на серебряной подставке находились песочные
часы, из которых сыпался песок блестящими крупинками, и вокруг маленького
алтаря было написано золотыми буквами: «Настоящее — благое время». Слово
«настоящее» было крупнее, чем остальные. «Настоящее» было, очевидно, девизом
Мэвис — не терять момента, но работать, молиться, любить, надеяться,
благодарить Бога, быть довольной жизнью — все в «Настоящем», и не сожалеть о
прошедшем, не предугадывать будущее, но просто делать лучшее, что только может
быть сделано, и представить все остальное с детским доверием Божественной Воле.
Я в беспокойстве поднялся и пошел по дорожке, по которой прошли в сад моя жена
и Мэвис. Я нашел их у клетки сов-Атеней; главная сова, по обыкновению, с
важностью фыркала и топорщила перья от негодования. Сибилла повернулась, увидев
меня; ее лицо было ясно и улыбалось.
— Мисс Клер независима в своих мнениях, Джеффри, —
сказала она. — Она не побеждена князем Риманцем, как большинство. Факт
тот, что она только что призналась мне, что он ей не совсем нравится.
Мэвис покраснела, но ее глаза встретились с моими с
бесстрашной прямотой.
— Я знаю, что не следует говорить того, что
думаешь, — прошептала она как-то смущенно, — в этом мой большой
недостаток. Пожалуйста, простите меня, м-р Темпест. Вы сказали мне, что князь —
ваш лучший друг, и, уверяю вас, я была чрезвычайно поражена его внешностью при
первом взгляде… Но потом, когда я немного присмотрелась к нему, во мне явилось
убеждение, что он не совсем тот, чем кажется.
— Точно так же он сам говорит про себя, — ответил
я, слегка засмеявшись. — Я думаю, у него есть тайна, и он обещал мне
как-нибудь ее пояснить. Но мне досадно, что он вам не нравится, мисс Клер, так
как вы ему нравитесь.
— Может быть, когда я встречу его снова, мой взгляд
изменится, — сказала ласково Мэвис, — а теперь… Ну, не будем об этом
больше говорить! В самом деле, с моей стороны было неделикатно высказывать
такое мнение о человеке, к которому вы и леди Сибилла чувствуете большое
расположение. Но что-то, казалось, заставило меня, почти против моей воли,
сказать то, что я только что сказала.
Ее добрые глаза глядели огорченно и смущенно, и, чтобы
успокоить ее и переменить тему, я спросил, не пишет ли она что-нибудь новое.
— О да, — ответила она, — я никогда не
ленюсь. Публика очень добра ко мне, и, прочитав одну мою вещь, она немедленно
требует другую, так что я очень занята.
— А что же критики? — спросил я с большим
любопытством.
Она засмеялась.
— Я никогда не обращаю на них ни малейшего внимания, —
ответила она, — исключая, когда они настолько запальчивы и слепы, что
пишут ложь обо мне: тогда я, естественно, беру смелость опровергать эту ложь —
или посредством личного объяснения, или посредством моих адвокатов. Кроме
запрещения вводить публику в ложное представление о моем труде и целях, я не
имею никакой вражды против критиков. Обыкновенно они — бедные труженики и
страшно борются за существование. Я часто помогала некоторым из них так, чтобы
они этого не знали. Один из моих издателей прислал мне на днях рукопись одного
из моих злейших врагов прессы и заявил, что мое мнение решит ее судьбу; я
прочла ее и, хотя работа была не из блестящих, но довольно хорошая, я, как
только могла, горячо расхвалила ее и настаивала на ее издании с условием, чтобы
автор никогда не узнал, что я имела решающий голос. Эта книга недавно вышла из
печати, и я уверена, что она будет иметь успех.
Она остановилась и, сорвав несколько темно-красных роз,
подала их Сибилле.
— Да, критикам очень плохо, ужасно плохо платят, —
продолжала она задумчиво. — Нельзя ожидать, чтобы они писали панегирики
пользующемуся успехом автору, когда они сами не имеют успеха: чем иным может
быть подобная работа, как не желчью и полынью. Я знакома с бедной маленькой
женой одного из них и оплатила счет ее портнихи, потому что она боялась
показать его своему мужу. Спустя неделю он разнес мою последнюю книгу в газете,
где он сотрудничает, и получил за свой труд, я полагаю, около гинеи. Конечно,
он ничего не знал относительно своей маленькой жены и ее докучливой портнихи, и
никогда не узнает, потому что я взяла с нее слово сохранить секрет.
— Но зачем вы делаете подобные вещи? — спросила
удивленная Сибилла. — Если бы я была на вашем месте, я бы не
препятствовала его жене впутаться в гражданскую палату за свой счет!
— Да? — Мэвис важно улыбнулась:
— Ну, а я не могла. Вы знаете, Кто сказал:
«Благословляй проклинающих тебя и делай добро ненавидящим тебя»? Притом бедная
маленькая женщина была ужасно испугана своей затратой. Вы знаете, жалко
смотреть на беспомощное страдание людей, которые хотят жить выше средств: они
страдают гораздо больше, чем нищие на улицах, зарабатывающие часто более фунта
в день только благодаря хныканью и плаксивости. Критики находятся в гораздо
худших условиях, чем нищие: мало кто зарабатывает фунт в день, и, конечно, они
смотрят как на своих врагов на авторов, зарабатывающих от тридцати до
пятидесяти фунтов в неделю. Уверяю вас, мне жаль критиков: они — менее
уважаемые и хуже награждаемые из всего литературного мира. И я никогда не забочусь
о том, что они про меня говорят, исключая те случаи, как я заметила раньше,
когда они в своей поспешности начинают лгать: тогда разумеется, для меня
делается необходимым восстановить истину в простой самозащите, как того требует
мой долг по отношению к публике. Но, как правило, я отдаю все заметки прессы
Трикси, — указала она на крошечную таксу, которая шла вплотную с краем ее
белого платья, — и она разрывает их в клочки в несколько минут.
Она весело засмеялась, и Сибилла улыбнулась, следя за ней с
тем удивлением и восхищением, которые более или менее выражались в ее взглядах
с самого начала нашего свидания с этим веселым профессором литературной славы.
Мы теперь шли по направлению к калитке, собираясь уходить.
— Могу я иногда приходить к вам поболтать? —
спросила вдруг моя жена самым очаровательным и просящим тоном. — Это было
бы таким исключительным правом!
— Приходите, когда вам вздумается, после
полудня, — тотчас ответила Мэвис. — Утро принадлежит богине более
властной, чем Красота — работе.
— Вы никогда не работаете ночью? — спросил я.
— Разумеется, нет! Я никогда не ставлю уставы природы
вверх дном. Ночь — для сна, и я пользуюсь ею с благодарностью за это
благословенное назначение.
— Хотя многие авторы могут писать только ночью! —
сказал я.
— Тогда вы можете быть уверены, что они дают пятнистые
картины и неясные характеристики. Есть, я знаю, такие, которые вызывают
вдохновение посредством джина или опия так же, как и полночными влияниями, но я
не верю в подобные методы. Тот, кто хочет написать книгу, которая держалась бы
более одного «сезона», должен писать утром, когда отдохнувший мозг свеж для
литературного труда.
Она проводила нас до калитки и остановилась под портиком. Ее
громадная собака легла около нее, и розы колыхались над ее головой.
— Во всяком случае, работа приносит вам пользу, —
сказала Сибилла, глядя на нее долгим, пристальным, почти завистливым
взглядом. — Вы выглядите совершенно счастливой!
— Я совершенно счастлива, — ответила она
улыбаясь. — Мне нечего желать, кроме того, чтобы умереть так же спокойно,
как я живу.
— Пусть этот день будет очень отдаленным! — сказал
я горячо.
Она подняла на меня свои добрые мечтательные глаза.
— Благодарю вас!
Она сделала нам прощальный жест рукой, когда мы оставили ее
и повернули за угол проселка, и несколько минут мы медленно шли в абсолютном
молчании. Наконец Сибилла заговорила.
— Я вполне понимаю ненависть к Мэвис Клер, —
сказала она. — Я боюсь, что я сама начинаю ее ненавидеть.
Я остановился и смотрел на нее, удивленный и уничтоженный.
— Ты начинаешь ненавидеть ее? Ты? И почему?
— Ты так слеп, что не можешь заметить, почему! —
резко возразила она, и хорошо знакомая мне легкая недобрая улыбка заиграла
вокруг ее губ. — Потому что она счастлива! Потому что у нее нет соблазнов
в жизни, и потому что она смеет быть довольной! Хочется сделать ее несчастной!
Но как это сделать? Она верит в Бога. Она думает, что все Его предписания
правильны и благи. С такой твердой верой она будет счастлива на чердаке,
зарабатывая несколько пенсов в день. Я теперь великолепно вижу, чем она
завоевала публику: она внушает те теории жизни, в которых она сама убеждена.
Что можно сделать против нее? Ничего! Но я понимаю, почему критики любят
«давить» ее; если б я была критиком, имеющим склонности к виски и
кафе-шантанным женщинам, я бы сама «давила» ее за то, что она так непохожа на
остальных особей своего пола.
— Что ты за непонятная женщина, Сибилла! —
воскликнул я с действительным раздражением. — Ты восторгаешься книгами
мисс Клер, ты всегда восторгалась ими, ты просила ее подружиться, и почти в то
же самое время ты утверждаешь, что хотела бы «раздавить» ее или сделать ее
несчастной! Признаюсь, я не могу тебя понять!
— Разумеется, ты не можешь! — спокойно ответила
она, и ее глаза глядели на меня со странным выражением, когда мы остановились
на минуту под тенью каштана прежде, чем войти в наш парк. — Я никогда не
предполагала, что ты можешь, и, непохожая на заурядную «непонятную» женщину, я
никогда не винила тебя за твое нежелание понять. Я сама иногда не понимаю себя,
и даже теперь я не вполне уверена, что безошибочно определила глубину или
ограниченность моей натуры. Но по отношению к Мэвис Клер, разве ты не состоянии
себе представить, что зло может ненавидеть добро? Что отъявленный пьяница может
ненавидеть умеренного гражданина? что отверженная может ненавидеть невинную
девушку? и что, возможно, я, читая жизнь, как я ее читаю, и находя ее
отвратительной в ее проявлениях, не веря совершенно ни мужчинам, ни женщинам, и
лишенная всякой веры в Бога, — могу ненавидеть? Да, ненавидеть!
И она захватила в горсть поблекшие листья и разбросала их у
своих ног.
— Ненавидеть женщину, которая находит жизнь прекрасной
и признает существование Бога, которая не принимает участия в наших
общественных обманах и злословиях, и которая, вместо моей мучительной страсти к
анализу, обеспечила себе завидную славу и уважение тысяч людей, связанная с
невозмутимым довольством! Чего-нибудь да стоило бы, чтобы такую женщину сделать
несчастной — хоть один раз в жизни, но такая, как она есть, это невозможно!
Она отвернулась от меня и медленно пошла вперед. Я
последовал за ней в горестном молчании.
— Если ты не хочешь быть ее другом, тебе следовало так
ей и сказать, — вымолвил я. — Ты слышала, что она говорила
относительно притворных уверений в дружбе?
— Слышала, — сумрачно ответила она. — Она
умная женщина, Джеффри, и ты можешь довериться ей, чтобы разгадать меня.
При этих словах я поднял глаза и прямо взглянул на нее. Ее
чрезвычайная красота становилась для меня почти мучением, и с внезапным порывом
отчаяния я воскликнул:
— О Сибилла, Сибилла! Зачем ты такая?!
— Ах, зачем, в самом деле?! — откликнулась она,
насмешливо улыбнувшись. — И зачем, будучи такой, я родилась графской
дочерью? Если б я была уличной шлюхой, я была бы на своем месте, обо мне писали
бы драмы и романы, и я могла бы сделаться такой героиней, что все хорошие люди
плакали бы слезами радости от моего великодушия в поощрении их пороков. Но как
графская дочь, порядочно вышедшая замуж за миллионера, я — ошибка природы.
Иногда природа делает ошибки, Джеффри, а когда она делает их, они обыкновенно
непоправимы!
В это время мы дошли до нашего парка, и я в убийственном
настроении брел рядом с ней через луг по направлению к дому.
— Сибилла, — сказал я наконец, — я надеялся,
что ты и Мэвис Клер могли сделаться друзьями.
Она засмеялась.
— Я полагаю, что мы будем друзьями, но ненадолго:
голубка неохотно входит в компанию с вороном, а образ жизни и прилежные
привычки Мэвис Клер будут для меня нестерпимо скучны. Притом, как я сказала
раньше, она как умная и глубокомысленная женщина слишком прозорлива, чтобы не
разгадать меня с течением времени. Но я буду притворяться, пока могу. Если я
стану разыгрывать роль «владетельной леди» или «покровительницы», то, конечно,
она меня не пожелает ни на минуту. Мне предстоит более трудная роль — роль
честной женщины!
Опять она засмеялась злым смехом, заледенившим мою кровь, и
медленно прошла в дом через открытую дверь гостиной. И я, оставшись один в
саду, среди роз и деревьев, почувствовал, что прекрасное поместье Виллосмир
вдруг сделалось безобразным, лишилось всех своих прежних прелестей и было лишь
убежищем для отчаяния, убежищем для всевластного и всегда победоносного духа
зла.
|


