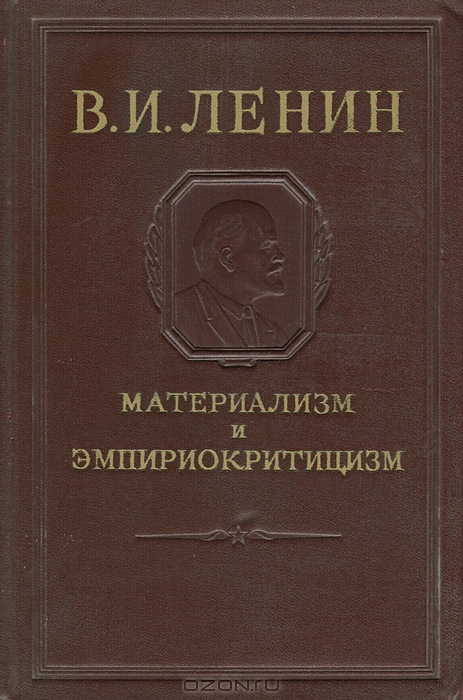
 Увеличить Увеличить |
6. СВОБОДА И
НЕОБХОДИМОСТЬ
На стр. 140-141 «Очерков» А.Луначарский приводит рассуждения
Энгельса в «Анти-Дюринге» по этому вопросу и вполне присоединяется к
«поразительной по отчетливости и меткости» характеристике дела Энгельсом на
соответственной «дивной странице»[154] указанного
сочинения.
Дивного тут действительно много. И всего более «дивно», что
ни А.Луначарский, ни куча других махистов, желающих быть марксистами, «не
заметили» гносеологического значения рассуждений Энгельса о свободе и
необходимости. Читать — читали и переписать — переписали, а что к чему, не
поняли.
Энгельс говорит:
«Гегель первый правильно представил соотношение свободы и
необходимости. Для него свобода есть познание необходимости. «Слепа
необходимость, лишь поскольку она не понята». Не в воображаемой
независимости от законов природы заключается свобода, а в познании этих законов
и в основанной на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы
действовать для определенных целей. Это относится как к законам внешней
природы, так и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого
человека, — два класса законов, которые мы можем отделять один от другого
самое большее в нашем представлении, отнюдь не в действительности. Свобода воли
означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со
знанием дела. Таким образом, чем свободнее суждение человека по отношению
к определенному вопросу, с тем большей необходимостью будет
определяться содержание этого суждения… Свобода состоит в основанном на
познании необходимостей природы (Naturnotwendigkeiten) господстве над нами
самими и над внешней природой…» (стр. 112-113 пятого нем. изд.).[155]
Разберем, на каких гносеологических посылках основано все
это рассуждение.
Во-первых, Энгельс признает с самого начала своих
рассуждений законы природы, законы внешней природы, необходимость
природы, — т.е. все то, что объявляют «метафизикой» Мах, Авенариус,
Петцольдт и К°. Если бы Луначарский хотел подумать хорошенько над «дивными»
рассуждениями Энгельса, то он не мог бы не увидеть основного различия
материалистической теории познания от агностицизма и идеализма, отрицающих закономерность
природы или объявляющих се только «логической» и т.д. и т.п.
Во-вторых, Энгельс не занимается вымучиванием «определений»
свободы и необходимости, тех схоластических определений, которые всего более
занимают реакционных профессоров (вроде Авенариуса) и их учеников (вроде
Богданова). Энгельс берет познание и волю человека — с одной стороны,
необходимость природы — с другой, и вместо всякого определения, всякой
дефиниции, просто говорит, что необходимость природы есть первичное, а воля и
сознание человека — вторичное. Последние должны, неизбежно и необходимо должны,
приспособляться к первой; Энгельс считает это до такой степени самоочевидным,
что не теряет лишних слов на пояснение своего взгляда. Только российские
махисты могли жаловаться на общее определение материализма Энгельсом
(природа — первичное, сознание — вторичное: вспомните «недоумения» Богданова по
этому поводу!) и в то же время находить «дивным» и «поразительно метким» одно
из частных применений Энгельсом этого общего и основного определения!
В-третьих, Энгельс не сомневается в существовании «слепой
необходимости». Он признает существование необходимости, не познанной
человеком. Это яснее ясного видно из приведенного отрывка. А между тем, с точки
зрения махистов, каким образом может человек знать о существовании
того, чего он не знает? Знать о существовании непознанной
необходимости? Разве это не «мистика», не «метафизика», не признание «фетишей»
и «идолов», не «кантианская непознаваемая вещь и себе»? Если бы махисты
вдумались, они не могли бы не заметить полнейшего тождества рассуждений
Энгельса о познаваемости объективной природы вещей и о превращении «вещи в
себе» в «вещь для нас», с одной стороны, и его рассуждений о слепой,
непознанной необходимости — с другой. Развитие сознания у каждого отдельного
человеческого индивида и развитие коллективных знаний всего человечества на
каждом шагу показывает нам превращение непознанной «вещи в себе» в познанную
«вещь для нас», превращение слепой, непознанной необходимости, «необходимости в
себе», в познанную «необходимость для нас». Гносеологически нет решительно
никакой разницы между тем и другим превращением, ибо основная точка зрения тут
и там одна — именно: материалистическая, признание объективной реальности
внешнего мира и законов внешней природы, причем и этот мир и эти законы вполне
познаваемы для человека, но никогда не могут быть им познаны до конца.
Мы не знаем необходимости природы в явлениях погоды и постольку мы неизбежно —
рабы погоды. Но, не зная этой необходимости, мы знаем, что она
существует. Откуда это знание? Оттуда же, откуда знание, что вещи существуют
вне нашего сознания и независимо от него, именно: из развития наших знаний,
которое миллионы раз показывает каждому человеку, что незнание сменяется
знанием, когда предмет действует на наши органы чувств, и наоборот: знание
превращается в незнание, когда возможность такого действия устранена.
В-четвертых, в приведенном рассуждении Энгельс явно
применяет «сальтовитальный» метод в философии, т.е. делает прыжок от
теории к практике. Ни один из тех ученых (и глупых) профессоров философии, за
которыми идут наши махисты, никогда не позволяет себе подобных, позорных для
представителя «чистой науки», прыжков. У них одно дело теория познания, в
которой надо как-нибудь похитрее словесно состряпать «дефиниции», и совсем
другое дело практика. У Энгельса вся живая человеческая практика врывается в
самое теорию познания, давая объективный критерий истины: пока мы не
знаем закона природы, он, существуя и действуя помимо, вне нашего познания,
делает пас рабами «слепой необходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий
(как тысячи раз повторял Маркс) независимо от нашей воли и от нашего
сознания, — мы господа природы. Господство над природой, проявляющее себя
в практике человечества, есть результат объективно-верного отражения в голове
человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, что это
отражение (в пределах того, что показывает нам практика) есть объективная,
абсолютная, вечная истина.
Что же мы получаем в итоге? Каждый шаг в рассуждении
Энгельса, почти буквально каждая фраза, каждое положение построены всецело и
исключительно на гносеологии диалектического материализма, на посылках, бьющих
в лицо всему махистскому вздору о телах, как комплексах ощущений, об «элементах»,
о «совпадении чувственного представления с вне нас существующей
действительностью» и пр., и т.п. и пр. Ни капельки не смущаясь этим, махисты
бросают материализм, повторяют (a la Берман) истасканные пошлости про
диалектику и тут же рядом принимают с распростертыми объятиями одно из
применений диалектического материализма! Они черпали свою философию из
эклектической нищенской похлебки и они продолжают угощать читателя таковой же.
Они берут кусочек агностицизма и чуточку идеализма у Маха, соединяя это с кусочком
диалектического материализма Маркса, и лепечут, что эта окрошка есть развитие
марксизма. Они думают, что если Мах, Авенариус, Петцольдт и все прочие их
авторитеты не имеют ни малейшего понятия о решении вопроса (о свободе и
необходимости) Гегелем и Марксом, то это чистейшая случайность: ну,
просто-напросто, не прочитали такой-то странички в такой-то книжечке, а вовсе
не в том дело, чтобы эти «авторитеты» были и остались круглыми невеждами
относительно действительного прогресса философии в XIX веке, были и
остались философскими обскурантами.
Вот вам рассуждение одного такого обскуранта, ординарнейшего
профессора философии в Венском университете, Эрнста Маха:
«Правильность позиции детерминизма или индетерминизма не
может быть доказана. Только законченная или доказанно невозможная наука могла
бы решить этот вопрос. Речь идет тут о таких предпосылках, которые мы вносим
(man heranbringt) в рассмотрение вещей, смотря по тому, приписываем ли прежним
успехам или неудачам исследования более или менее значительный субъективный вес
(subjektives Gewicht). Но во время исследования всякий мыслитель по
необходимости является теоретически детерминистом» («Познание и заблуждение», 2
нем. изд., стр. 282-283).
Разве это не обскурантизм, когда чистая теория заботливо
отгораживается от практики? Когда детерминизм ограничивается областью
«исследования», а в области морали, общественной деятельности, во всех
остальных областях, кроме «исследования», вопрос предоставляется «субъективной»
оценке? В моем кабинете, — говорит ученый педант, — я детерминист, а
о том, чтобы философ заботился о цельном, охватывающем и теорию и практику,
миросозерцании, построенном на детерминизме, нет и речи. Мах говорит пошлости
потому, что теоретически вопрос о соотношении свободы и необходимости совершенно
ему неясен.
«…Всякое новое открытие вскрывает недостатки нашего знания,
обнаруживает до сих пор незамеченный остаток зависимостей» (283)…
Превосходно! Этот «остаток» и есть «вещь в себе», которую
наше познание отражает все глубже? Ничего подобного:
«…Таким образом и тот, кто в теории защищает крайний
детерминизм, на практике неизбежно должен оставаться индетерминистом» (283)…
Ну, вот и поделились полюбовно:[156] теорию — профессорам, практику — теологам!
Или: в теории объективизм (т.е. «стыдливый» материализм), в практике —
«субъективный метод в социологии».[157]
Что этой пошлой философии сочувствуют русские идеологи
мещанства, народники, от Лесевича до Чернова, это неудивительно. Что люди,
желающие быть марксистами, увлеклись подобным вздором, стыдливо прикрывая
особенно нелепые выводы Маха, это уже совсем печально.
Но по вопросу о воле Мах не ограничивается путаницей и
половинчатым агностицизмом, а заходит гораздо дальше…
«Наше ощущение голода, — читаем в «Механике», — не
отличается по существу от стремления серной кислоты к цинку, наша воля не так
уже отличается от давления камня на его подпорку». «Мы окажемся таким образом
ближе к природе» (т.е. при подобном взгляде), «не нуждаясь в том, чтобы
разлагать человека на непостижимую груду туманных атомов или делать из мира
систему духовных соединений» (стр. 434 франц. перевода).
Итак, не нужно материализма («туманные атомы» или электроны,
т.е. признание объективной реальности материального мира), не нужно такого
идеализма, который бы признавал мир «инобытием» духа, но возможен идеализм,
признающий мир волей! Мы выше не только материализма, но и идеализма
«какого-нибудь» Гегеля, но мы не прочь пококетничать с идеализмом в духе
Шопенгауэра! Наши махисты, напускающие на себя вид оскорбленной невинности при
всяком упоминании о близости Маха к философскому идеализму, предпочли и здесь
просто умолчать об этом щекотливом пункте. А между тем в философской литературе
трудно встретить изложение взглядов Маха, в котором бы не отмечалась его
склонность к Willensmetaphysik, т.е. к волюнтаристическому идеализму. На это
указывал Ю.Бауман[158] —
и возражавший ему махист Г.Клейнпетер но опровергал этого пункта и заявлял, что
Мах, конечно, «ближе к Канту и Беркли, чем к господствующему в естествознании
метафизическому эмпиризму» (т.е. стихийному материализму; там же, Bd. 6, S.
87). На это указывает и Э.Бехер, отмечающий, что если Мах в одних местах
признает волюнтаристическую метафизику, в других отрекается от нее, то это
свидетельствует лишь о произвольности его терминологии; на деле близость Маха к
волюнтаристической метафизике несомненна.[159] Примесь
этой метафизики (т.е. идеализма) к «феноменологии» (т.е. агностицизму) признает
и Люкка.[160] На то же самое указывает
В.Вундт.[161] Что Мах феноменалист, «не
чуждый волюнтаристического идеализма», это констатирует и руководство по
истории новейшей философии Ибервега-Гейнце.[162]
Одним словом, эклектицизм Маха и его склонность к идеализму
ясны для всех, кроме разве русских махистов.
|


