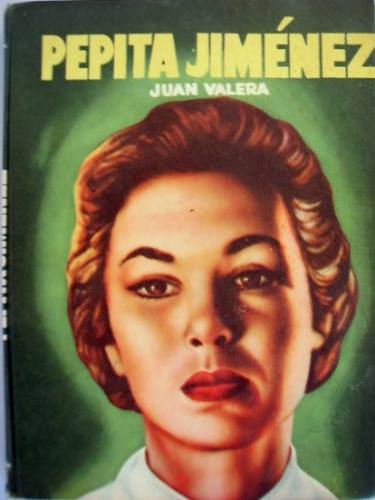
 Увеличить Увеличить |
Nescit labi virtus [1]
В архиве
настоятеля кафедрального собора города ***, почтенного сеньора, умершего
несколько лет назад, осталась связка документов, которая, переходя из рук в
руки, попала наконец ко мне, причем, по удивительному стечению обстоятельств,
ни одна из бумаг не была утеряна. Латинское изречение, стоявшее на связке,
послужило мне эпиграфом; имени женщины, которым я решил назвать рукопись, не
было; возможно, бумаги сохранились именно благодаря заголовку: считая их
богословским трудом или проповедью, никто до меня не развязал шнурка и не
прочел ни одной страницы.
Содержимое
связки состоит из трех частей. Первая называется: «Письма племянника», вторая:
«Паралипоменон» [2] и
третья: «Эпилог: Письма брата».
Все
бумаги написаны одной рукой, – по-видимому, это почерк сеньора настоятеля.
А так как все вместе составляет своего рода повесть, правда отличающуюся скудной
фабулой или совсем ее лишенную, я решил было сперва, что сеньор настоятель
изредка на досуге предавался сочинительству; но, внимательно вчитавшись в
рукопись, я заметил ее непринужденную простоту и склоняюсь к мысли, что передо
мной копии подлинных писем, которые сеньор настоятель порвал, сжег или
возвратил их авторам, и только часть повествования, под библейским заглавием
«Паралипоменон», принадлежит перу сеньора настоятеля и написана им с целью
пополнить картину, сообщив то, о чем в письмах не упоминается.
Как бы
то ни было, признаюсь, что меня не утомило, а скорее заинтересовало чтение этих
бумаг; а так как в наши дни печатают решительно все, я и взял на себя смелость
опубликовать их без проверки, изменив лишь собственные имена, – на тот
случай, если их обладатели еще живы и заявят неудовольствие, что их изобразили
в повести вопреки их желанию и без разрешения.
Письма,
содержащиеся в первой части, принадлежат, как думается, человеку весьма
молодому, обладающему религиозным пылом и некоторыми теоретическими познаниями,
но не имеющему никакого житейского опыта; он был воспитан при сеньоре
настоятеле, его дяде, в семинарии и страстно желал стать священником.
Этого
юношу мы назовем дон Луис де Варгас.
Упомянутая
рукопись начинается так:
I. Письма племянника
22 марта
Дорогой
дядя и досточтимый учитель! Вот уже четыре дня, как я благополучно прибыл в
уголок, в котором родился; я нашел в добром здравии батюшку, сеньора викария,
друзей и родственников. Мне было так отрадно после долгих лет разлуки вновь
увидеться и говорить с ними, я был так взволнован встречей, что не заметил, как
пролетело время; вот почему я до сих пор не успел написать вам.
Надеюсь,
вы простите меня.
Так как
я уехал отсюда ребенком, а вернулся мужчиной, все, что сохранилось в моей
памяти, производит на меня теперь странное впечатление. Все предметы выглядят
меньше, гораздо меньше, но зато милее, чем я ожидал. Дом батюшки в прежнем моем
воображении был огромным, а на самом деле этот обычный просторный дом богатого
земледельца значительно меньше нашей семинарии. Здешние окрестности – вот что
восхищает меня! Особенно хороши сады. Какие чудесные тропки встречаются там! По
обочинам с веселым журчанием бежит хрустальная вода. Берега оросительных
каналов усеяны душистыми травами и множеством разнообразных цветов. Вмиг можно
собрать огромный букет фиалок. Гигантские орешники, смоковницы и другие
густолиственные деревья дают прохладу и тень; изгородью служат гранатовые
деревья, кусты ежевики, роз и жимолости.
Необычайное
множество птиц оживляет поля и рощи.
Я
очарован садами и каждый вечер час-другой гуляю в них.
Батюшка
хочет взять меня с собой и показать наши оливковые рощи, виноградники и фермы,
которых я еще не видел, так как не выходил за пределы городка и окружающих его
прелестных садов.
Правда,
постоянные гости не дают мне ни минуты покоя. Пять женщин пришли обнять и
расцеловать меня, и все оказались моими бывшими кормилицами.
Хотя мне
уже двадцать два года, все называют меня Луисито или «малыш дона Педро». Когда
меня нет, то справляются у отца о его «малыше».
Кажется,
я напрасно привез с собой книги, – меня ни на мгновение не оставляют
одного.
Звание
касика, к которому я относился как к некоей шутке, оказалось вещью весьма
серьезной. Батюшка – касик этой местности.
Едва ли
здесь сыщется человек, способный понять мое стремление (или – как говорят
местные жители – манию) стать священником; эти добрые люди с наивностью дикарей
советуют мне отказаться от духовного звания; по их мнению, сан священника хорош
для бедняка, а мне, богатому наследнику, следует жениться и утешить старость
отца, подарив ему с полдюжины прекрасных, здоровых внучат.
Чтобы
польстить мне и угодить батюшке, мужчины и женщины утверждают, что я парень
хоть куда, находчив и остроумен, и будто у меня лукавые глаза, – словом,
говорят всякий вздор, который меня огорчает, сердит и смущает, а ведь я не
застенчив и знаком со всеми сумасбродствами и темными сторонами жизни
настолько, чтобы ничем не возмущаться и ничего не бояться.
Единственный
недостаток, который во мне нашли, – это моя худоба; но ее относят за счет
учения. Чтобы я поправился, здесь умышленно мешают моим занятиям и отвлекают
меня от книг, а кроме того, пичкают всеми чудесами кулинарии, которыми славится
наша округа; ну точно задались целью откормить меня на убой. Знакомые семьи что
ни день шлют подарки. То это бисквитный торт, то куахадо [3], то ореховая пирамида, то банка засахаренных
фруктов.
Внимание,
которое мне оказывают, не ограничивается подношениями, – меня приглашают в
лучшие дома нашей местности.
Завтра я
зван на обед к знаменитой Пепите Хименес, о которой вам, без сомнения, уже
приходилось слышать. Здесь ни для кого не секрет, что батюшка сватается к ней.
Несмотря
на свои пятьдесят пять лет, батюшка выглядит так, что ему могут позавидовать
самые блестящие молодые люди в городе. Кроме того, он обладает обаянием,
непреодолимым для некоторых женщин, – его слава старого донжуана до сих
пор сияет в ореоле прошлых побед.
Я еще не
знаком с Пепитой Хименес. Говорят, она очень хороша собой. Подозреваю, что это
обыкновенная провинциальная красавица. По рассказам трудно, конечно, судить,
какова она в нравственном отношении, однако можно заключить, что у нее большой
природный ум.
Пепите
лет двадцать; она вдова, а замужем провела всего три года. Она дочь покойной
доньи Франсиски Гальвес, известной вам вдовы отставного капитана, который, как
говорит поэт,
…ей оставил после смерти
В наследство лишь свой славный меч.
До
шестнадцати лет Пепита жила с матерью в большой нужде, почти в нищете.
Был у
нее дядя, по имени дон Гумерсиндо, владелец ничтожного майората – одного из
тех, которые создавались в старину в угоду нелепому тщеславию. Обычный человек
жил бы на его месте в непрерывных лишениях и наконец увяз бы в долгах, тщетно
пытаясь сохранить блеск имени и поддержать достоинство, приличествующее его
положению в обществе; но дон Гумерсиндо оказался человеком необычным –
подлинным гением экономии. Нельзя сказать, что он создавал богатство, но он
обладал редчайшей способностью поглощать богатство других и проявлял такую
скромность в своих расходах, что трудно было найти на земле другого человека, о
чьем питании, здоровье и благополучии меньше заботились бы мать-природа и
человеческое искусство. Неизвестно, как он существовал, но, так или иначе, он
дожил до восьмидесяти лет и сохранил свои доходы нетронутыми, а капитал
приумножил с помощью займов, выдаваемых под верный залог. Здесь никто не
порицает его за то, что он был ростовщиком, напротив – его даже считают
человеком сострадательным, ибо, умеренный во всем, он был умерен и в
ростовщичестве, запрашивая не больше десяти процентов в год, в то время как
другие берут по двадцать, тридцать, а то и больше.
Благодаря
своей аккуратности, расторопности и энергии, всегда направленной на
приумножение, а не на уменьшение земных благ, не позволив себе роскоши
жениться, иметь детей и даже курить, дон Гумерсиндо достиг возраста, о котором
я уже упомянул, и стал обладателем капитала, несомненно значительного где бы то
ни было, а здесь, в силу бедности местных жителей и природной склонности
андалусцев к преувеличению, казавшегося огромным.
Дон
Гумерсиндо, старик весьма опрятный и внимательный к своей особе, производил
приятное впечатление.
Костюмы,
составлявшие его несложный гардероб, были несколько поношены, но без единого
пятнышка; чистота их бросалась в глаза, хотя все знали, что у него с давних
времен все те же плащ и пелерина, те же брюки и жилет.
Случалось,
соседи спрашивали друг друга, видел ли кто у дона Гумерсиндо обновки, – но
никто не мог ответить на подобный вопрос.
Несмотря
на эти недостатки, которые здесь, как, впрочем, и в других местах, почитаются
добродетелями, хотя и несколько преувеличенными, дон Гумерсиндо обладал также
рядом превосходных качеств: он был приветлив, предупредителен, отзывчив и изо всех
сил старался угодить и быть полезным всем на свете, хотя бы это требовало
бессонных ночей, труда и усталости, – лишь бы не стоило ни одного реала.
Весельчак, шутник и балагур, он принимал участие во всех собраниях и
празднествах, если они не были в складчину, и очаровывал присутствующих
любезностью обращения и разумной, хотя и не слишком утонченной, беседой. Он
никогда не обнаруживал сердечной склонности к какой-либо определенной женщине –
ему нравились все, – и из местных стариков никто на десять лиг в
окружности не умел так просто, без лукавства поухаживать за девушками и
посмешить их. Я уже говорил, что он приходился Пепите дядей; когда ему было под
восемьдесят, ей еще не исполнилось шестнадцати. Он был богат и знатен, она –
бедна и беспомощна.
Ее мать,
женщина вульгарная и недалекая, не отличалась тонкостью чувств. Она любила
дочь, но беспрестанно попрекала ее теми лишениями и жертвами, на которые она
ради нее шла, и горько жаловалась на ожидавшую ее безутешную старость и смерть
в нищете. У доньи Франсиски был еще сын, старше Пепиты, – кутила, игрок и
забияка, от которого ей после бесчисленных неприятностей удалось наконец
отделаться, пристроив его на пустяковую должность подальше за океан, в Гавану.
Вскоре, однако, молодого человека уволили за неизменно дурное поведение, и
тогда от него посыпались письма с просьбами прислать денег. Мать, которой едва
хватало на себя и Пепиту, приходила в отчаяние и ярость; забывая об
евангельском терпении, она проклинала свою судьбу и надеялась только на то, что
ей удастся пристроить дочь и таким образом избавиться от нужды.
В столь
тяжкое для них время дон Гумерсиндо стал чаще обычного посещать их дом и
ухаживать за Пепитой так настойчиво и усердно, как еще никогда не ухаживал за
другими. Но таким невероятным и безрассудным казалось предположение, что
человеку, прожившему восемьдесят лет без мысли о женитьбе и стоявшему уже одной
ногой в могиле, вдруг взбрела в голову подобная глупость, что ни мать, ни
Пепита не могли разгадать эти поистине дерзкие замыслы дона Гумерсиндо.
Поэтому-то обе были изумлены и поражены, когда однажды после многих
любезностей, сказанных полушутя, полусерьезно, дон Гумерсиндо
нежданно-негаданно, глядя Пепите в глаза, в упор спросил:
– Девочка,
выйдешь за меня замуж?
Хотя
вопросу этому предшествовали многочисленные остроты и его можно было принять за
одну из них, Пепита, несмотря на всю неопытность в житейских делах, каким-то
чутьем, присущим женщинам и особенно девушкам, даже самым простодушным, поняла,
что тут дело серьезное. Она покраснела, как вишня, и ничего не ответила. За нее
ответила мать:
– Девочка,
будь же вежливой и отвечай дяде, как полагается: «С удовольствием, дядюшка;
когда вам будет угодно».
Говорят,
что это «С удовольствием, дядюшка; когда вам будет угодно» – против воли
слетело с дрожащих губ Пепиты, уступившей наставлениям, уговорам, жалобам и
наконец властному приказу матери.
Кажется,
я слишком пространно повествую вам об этой Пепите Хименес и ее приключениях, но
она заинтересовала меня и, полагаю, может заинтересовать и вас, так как, судя
по всему, она станет вашей невесткой, а моей мачехой. Однако я постараюсь не
задерживаться на мелочах и изложу события лишь в общих чертах; возможно, они
вам известны, хотя вас уже давно здесь не было.
Пепита
Хименес вышла замуж за дона Гумерсиндо.
Завистливые
языки жестоко хулили ее как до брака, так и долгое время спустя.
В самом
деле, нравственная сторона этого союза достаточно спорна. Но если вспомнить о
просьбах, жалобах, и даже прямых приказаниях ее матери, о надеждах Пепиты
обеспечить этим замужеством спокойную старость для матери, спасти от позора и
бесчестья брата, стать их ангелом-хранителем, их провидением, – то нужно
признать, что поступок ее заслуживает снисхождения. Да и как проникнуть в
глубину души, в сокровенные тайники разума юной девушки, воспитанной в тиши
уединения и полном неведении жизни? Какое представление о браке могло у нее
сложиться? Может быть, она думала, что, выйдя замуж за дона Гумерсиндо, она
посвятит всю жизнь заботам о нем, будет его сиделкой, усладит его жизнь и не
покинет одинокого, больного старика на милость чужих, наемных людей и, наконец,
словно ангел, принявший образ женщины, озарит и скрасит своею юностью, нежным
сиянием своей сверкающей и пленительной красоты его последние дни. Если таковы
были размышления девушки, если в своем неведении она не проникла в другие
скрытые тайны, то как не признать ее намерения добрыми.
Но лучше
откажемся от всех предположений и догадок: я не имею на них права, так как не
знаком с Пепитой Хименес. Одно верно: в течение трех лет она жила со стариком в
мире и согласии; дон Гумерсиндо казался счастливее, чем когда-либо; она
оберегала его и самоотверженно пеклась о нем, а во время его последней тяжелой
болезни ухаживала за ним неутомимо, нежно и любовно, пока старик не скончался на
ее руках, оставив ей в наследство большое состояние.
Хотя
Пепита уже больше двух лет как потеряла мать, а овдовела более полутора лет
назад, она все еще носит траур и живет в скромном, печальном уединении; можно
подумать, что она до сих пор оплакивает смерть мужа, словно он был молодым
красавцем. Возможно также, что гордость подсказывает ей, какими мало
поэтическими средствами она достигла богатства, и в своем душевном смятении,
пристыженная и снедаемая укорами совести, она в суровости и уединении пытается умерить
боль и излечить сердечную рану.
Здесь,
как и везде, люди страстно любят деньги. Впрочем, выражение «как везде»
неточно: в многолюдных городах, в больших центрах цивилизации есть другие
отличия, которых добиваются так же ревностно, как и денег, ибо эти отличия
открывают путь перед людьми, придавая им вес в обществе; но в маленьких
городках, где обычно ни литературная, ни научная слава, ни даже благородство
манер, тонкий вкус, остроумие, любезность обхождения не ценятся и не считаются
достоинствами, – нет других ступеней, создающих социальную иерархию, кроме
обладания большим или меньшим состоянием. Пепита, богатая, красивая и к тому же
разумно распоряжающаяся своим богатством, пользуется здесь необычайным
уважением и весом. Ей предлагают блестящие партии, к ней сватаются самые
обеспеченные молодые люди нашей округи. Но она отвергает всех, правда очень
мягко, стараясь не нажить врагов; полагают, что она глубоко набожна и мечтает
посвятить свою жизнь только делам христианской любви и религиозного благочестия.
Говорят,
батюшка преуспел не больше других искателей ее руки. Но Пепита, следуя
поговорке: «Храброму не мешает быть учтивым», проявляет к нему чувства
искренние, сердечные и бескорыстные. Она с ним чрезвычайно любезна и старается
во всем ему угодить; но каждый раз, когда батюшка пытается заговорить с ней о
любви, она останавливает его кротким нравоучением, вспоминает его прежние
проступки и стремится вызвать в нем разочарование в мирской суетности.
Я слышу
так много разговоров об этой женщине, что, признаюсь вам, мне просто любопытно
познакомиться с ней. Надеюсь, мое любопытство законно, и полагаю, что в нем нет
ничего легкомысленного или греховного; я признаю правоту Пепиты и от всей души
желаю, чтобы батюшка в своем зрелом возрасте наконец изменил образ жизни,
предав забвению страсти и волнения молодых лет и пришел к спокойной, счастливой
и почтенной старости. В одном лишь я не согласен с Пепитой: я думаю, что отец
достигнет цели скорее, если женится на достойной, доброй и любящей его женщине.
Вот почему я желаю познакомиться с молодой вдовой и удостовериться, может ли
она стать этой женщиной; мне даже досадно: я чувствую, что моя семейная
гордость задета презрением Пепиты, хотя она и старается облечь его в любезную
форму; впрочем, если это дурное чувство, я хотел бы от него освободиться.
Будь у
меня иные планы, я предпочел бы, чтобы батюшка остался неженатым. В таком
случае я, как единственный сын, унаследовал бы все его богатства, а также
звание касика, но вам хорошо известно, как твердо мое решение.
Пусть я
недостоин и ничтожен, но я чувствую, что призван стать священником, а земные
блага мало привлекают меня. Если во мне есть хоть капля молодого огня и пылкой
страсти, свойственных моему возрасту, я посвящу их деятельной и плодотворной
христианской любви. Те многочисленные книги, которыми вы снабдили меня, и мои
познания из истории древних народов Азии вызывают во мне не только
любознательность, но и желание проповедовать веру и побуждают меня отправиться
миссионером на далекий Восток. Как только я покину отца и этот городок, куда вы
сами послали меня, и, став священником, получу по безграничной доброте
всевышнего чудесное и незаслуженное право разрешать от грехов и просвещать
язычников, хотя я сам лишь невежественный грешник, как только вечная таинственная
благодать снизойдет на меня и вложит в мои недостойные руки плоть и кровь
богочеловека, я покину Испанию и отправлюсь проповедовать евангелие в
отдаленных землях.
Мной
руководит не тщеславие: я не считаю себя лучше других. Если я полон твердой
веры и стойкости, этим – после божьей милости и благодати – я обязан, дорогой
дядя, вашему разумному воспитанию, святому учению и доброму примеру.
Я не
решаюсь признаться себе в одной вещи, но, против моего желания, это
соображение, эта мысль, это суждение часто приходит мне на ум; и раз уже так
случилось, я хочу и должен исповедаться вам, ибо мне не следует скрывать от вас
даже самые затаенные и невольные мысли: вы научили меня анализировать все
чувства души, искать их первопричину, хорошую или дурную, исследовать
глубочайшие уголки сердца – словом, производить тщательный опрос своей совести.
Я
неоднократно размышляю над двумя противоположными методами воспитания: один
учитель старается оградить невинность ребенка, вернее его невежество, полагая,
что неизвестного зла избегнуть легче, чем известного; другой же, стараясь не
оскорбить целомудрия своего ученика, достигшего разумного возраста, мужественно
показывает ему зло во всем его ужасном безобразии, во всей его страшной наготе,
чтобы он возненавидел и избегал его. Мне думается, зло нужно знать, чтобы лучше
оценить безграничную доброту бога – идеальный и недосягаемый предел наших
благородных стремлений. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне узнать, как
говорит священное писание, вместе с медом и елеем вашего учения зло и добро,
дабы осудить первое и разумно, настойчиво и сознательно стремиться ко второму.
Я рад, что без излишней наивности иду прямой стезей к добродетели и, насколько
это в человеческой власти, к совершенству, зная все муки и трудности паломничества,
которое нам предстоит в этой юдоли слез, не забывая также о том, насколько, по
видимости, ровен, легок, мягок, усеян цветами путь, ведущий к гибели и вечной
смерти.
Я считаю
себя обязанным поблагодарить вас еще за одно: вы научили меня относиться к
ошибкам и грехам, ближних с должной снисходительностью и терпимостью – не
слабовольной и потворствующей их порокам, но строгой и взыскательной.
Я все
это говорю потому, что хочу посоветоваться с вами по одному настолько
щекотливому и сложному вопросу, что я с трудом подыскиваю необходимые слова.
Дело в том, что иногда я спрашиваю себя: не лежит ли, хотя бы частично, в
основе моих намерений чувство досады против батюшки? Смог ли я в глубине души
простить ему страдания бедной матушки, ставшей жертвой его легкомыслия?
Я
внимательнейшим образом рассматриваю этот вопрос, но не нахожу в душе и капли
ожесточения. Наоборот, душа моя полна благодарности. Батюшка с любовью
воспитывал меня, в моем лице ценил память о матери, и я бы сказал, что, балуя
меня, с нежностью заботясь обо мне в мои детские годы, он старался смягчить
гнев ее оскорбленной души, если только душа моей матушки, ангела доброты и
кротости, могла затаить гнев. Итак, повторяю, что я преисполнен благодарности к
отцу: он признал меня, а когда мне исполнилось десять лет, послал к вам, и вы
стали моим учителем и воспитателем.
Если в
моем сердце взошел хоть слабый росток добродетели, если я овладел основами
наук, если моя воля стремится к честности и добру – этим я обязан вам.
Любовь
батюшки ко мне необычайна, его уважение ко мне безмерно превосходит мои
заслуги. Возможно, это следствие тщеславия. В отцовской любви есть нечто
эгоистическое, она служит как бы продлением себялюбия. Все мои достоинства и
успехи батюшка готов рассматривать как достижение – свое достижение, словно я
во плоти и в душе часть его личности. Но во всяком случае, я верю, что он меня
любит и что в его любви есть нечто независимое и более высокое, чем этот простительный
эгоизм, о котором я говорил.
Моя
совесть успокаивается, и я возношу пылкую благодарность богу, когда ощущаю, что
сила крови, узы природы – эта таинственная связь, которая роднит нас, –
внушают мне бескорыстную любовь и почтение к батюшке. Было бы ужасно, если бы я
старался полюбить его лишь во исполнение божественной заповеди. Однако и здесь
у меня возникает сомнение: происходит ли мое решение стать священником или
монахом, отказаться совсем или принять малую долю тех многочисленных благ, которые
перейдут ко мне по наследству и которыми я уже могу пользоваться при жизни
батюшки, лишь от презрения к житейской суетности, от истинного призвания к
религиозной жизни – или от гордости, тайной горечи и озлобления, от чего-то
такого во мне, что не может забыть обиды, которую простила с возвышенным
великодушием моя матушка? Это сомнение иногда одолевает и терзает меня, но
почти всегда я выхожу из него полный уверенности, что не грешу высокомерием по
отношению к батюшке: право, я принял бы от него все, если бы в этом нуждался; и
я успокаиваюсь тем, что благодарен ему за малое так же, как и за большое.
До
свидания, дядюшка; в дальнейшем я буду писать вам часто и подробно, как вы
велели, хотя и не так много, как сегодня, дабы не впасть в грех многословия.
|


