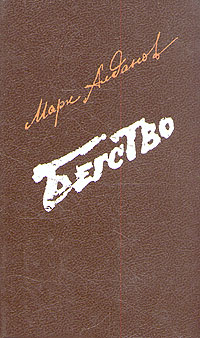
 Увеличить Увеличить |
XI
Николай Петрович читал об особом, тоскливом чувстве, которое
охватывает заключенного в ту минуту, когда за ним впервые «с визгом и скрипом
захлопывается тяжелая дверь». Но он этого не испытывал; он чувствовал лишь
большую усталость. Как только смотритель с фонарем ушел, любезно пожелав доброй
ночи, Яценко, осторожно вытянув руку вперед, добрался до койки, затем развязал
галстук, снял свой высокий двойной крахмальный воротник и лег, испытывая
наслаждение от постели, от одиночества, даже от темноты. Освещения в комнате не
было никакого. Николай Петрович полежал минут пять, собираясь подумать о
случившемся, но так и не подумал. Глаза у него стали слипаться, чувство
усталости и наслаждения все росло. Он сделал над собой усилие, привстал, кое‑как,
не без труда, разделся в темноте, снова лег и тотчас заснул глубоким сном,
каким ему случалось в последнее время спать лишь после большой дозы снотворного
средства.
Когда он проснулся, в камере была полутьма. Яценко приподнялся
на койке, вгляделся в камеру и привел мысли в порядок. Настроение у него было
довольно бодрое. Обычной утренней тоски не было. «Что ж, арестовали, не беда,
скоро выпустят… И спал прекрасно… Да это санаторию выстроил царь Петр
Алексеевич», – подумал, сладостно зевая, Николай Петрович и сам удивился
шутливому тону своей мысли. «И камера как камера… Конечно, не салон. Вот только
света мало, читать можно, но трудно…» В углублении стены оказалась
электрическая лампа без выключателя. Николай Петрович пытался ввинтить ее
покрепче, – лампа не зажглась, только пальцы у него почернели от пыли. Он
подошел к рукомойнику, из крана слабой, тонкой струей текла вода. Яценко
вспомнил, что у него в чемодане есть туалетные принадлежности, поднял крышку,
растянул ремни и стал раскладывать вещи, как когда‑то в гостиницах. Поверх
ремней лежали сплюснутые ночные туфли. Николай Петрович расправил их и бросил
на пол у постели. «Вот только коврика нет», – подумал он почти весело. Для
мыла, гребешка, зубной щетки, плоской бритвенной коробки нашлось место на
рукомойнике. У койки, прислоненной изголовьем к стене, была привинчена доска.
«Это ночной столик, он же у меня будет и письменный, и столовый»… Николай
Петрович положил на доску «Круг чтения». Другие вещи класть было некуда, пришлось
оставить в чемодане.
«Вот и отлично… Что же теперь делать?» – умывшись, с
недоумением спросил себя Яценко. Делать ему ничего не хотелось. Несмотря на
долгий сон, он все еще чувствовал усталость. «Который час?» Часы показывали
пять. Николай Петрович поднес их к уху, часы стояли. «Экая досада, забыл вчера
завести. У смотрителя надо спросить, когда он придет. Ведь придет же сюда кто‑нибудь,
хотя бы с едой…» Есть ему, впрочем, не хотелось. «В самом деле, чем же теперь
заняться? Нужно выработать порядок, может, и с месяц придется просидеть…
Вероятно, еще утро, хоть не поймешь здесь». Дома утренние часы проходили в
тоскливом ожидании ненужных послеобеденных визитов. Одни и те же разговоры
одних и тех же, хотя бы и приятных, людей, давно утомили Николая Петровича.
Теперь ему не хотелось видеть никого, даже Витю, – лишь бы быть вполне за
него спокойным. Но у Кременецких ничего дурного с Витей не могло случиться.
«Марусе забыл дать денег, – вспомнил с огорчением Яценко. – Ну, да
как‑нибудь устроится. У Кременецких же возьмет. Они очень славные люди… Верно,
можно будет послать и отсюда, если не скоро выпустят… И если не отберут денег.
Пока, однако, не отобрали. Даже и обыска не было…»
На стене висела бумага: «О порядке содержания заключенных в
Трубецком бастионе». Николай Петрович внимательно ее прочел, все удивляясь
новой орфографии. Инструкция была составлена в либеральном духе и предоставляла
заключенным немало льгот. «Совсем как в гостиницах правила, вот только не на
четырех языках». Аналогия между Трубецким бастионом и гостиницей или санаторией
забавляла Николая Петровича; он подумал, что надо будет рекомендовать друзьям
тюремное заключение для поправки нервов. «Главное – абсолютная тишина. Это
очень успокаивает… Вот на стене еще что‑то написано…» Против окна карандашом
были выведены стишки. «Полковник Швец, – напрягая зрение, разбирал
Яценко, – рожден был хватом. Слуга царю, отец солдатам»… Это недавняя
надпись… А должны быть и старые, ведь здесь люди сидели и сто лет тому назад…
Потом поищу по стенам. Теперь нужно обдумать… А впрочем, право, там будет
видно, когда позовут на допрос… Вот и книга лежит. Священное писание? Нет,
Священного писания они, конечно, не положили бы»… Николай Петрович поднял книгу
и с удивлением увидел, что это был «Круг чтения», им же сюда положенный.
«Странно, как я мог об этом забыть? Или голова плохо работает? Нет, не может
быть… Надо будет много ходить по камере, – так делали какие‑то
заключенные. Сильвио Пеллико, помнится, или народовольцы? Очень хорошо, что я
захватил книгу».
Яценко вспомнил, что в романах («а, может быть, и в жизни –
не все ведь выдумывают писатели?») люди часто открывают какую‑нибудь книгу
наудачу, обычно Библию, и при этом натыкаются на важные мысли, имеющие прямое
отношение к волнующим их вопросам. «Кажется, и у Толстого есть что‑то в этом
роде… Дай, попробую…» Николай Петрович открыл наудачу «Круг чтения». На
открывшейся странице было несколько мыслей. «Какую же взять? Эту? Но вот и на
правой странице тоже мысли…» Яценко прочел отрывок, начинавшийся первым под тире
на левой странице. Мысль эта не имела отношения к судьбе Николая Петровича. Но
была она тонкая, сложная, и говорила она о призрачности мира, – так по
крайней мере ее понял Яценко.
«В самом деле все призрачно, – подумал вдруг Николай
Петрович. – Вот и то, что случилось со мной, с Наташей, с Россией. Все
призрачно!.. Нет, как же, однако, все? Что призрачного, например, в том
помощнике коменданта? Или вот, эта стена?» Николай Петрович протянул руку,
прикоснулся к холодной сыроватой стене, – и отдернул руку с сожалением:
ему жалко было расставаться с идеей призрачности мира. «Еще попробовать?» Он
снова раскрыл книгу. Попалась длинная мысль, уж явно не имевшая отношения к его
судьбе:
«Вся деятельность людей мира состоит из скрывания неразумия
жизни: с этой целью существуют и действуют: 1) полиция, 2) войска, 3) уголовные
законы, тюрьмы, 4) филантропические учреждения: приюты для детей, богадельни
для стариков, 5) воспитательные дома, 6) дома терпимости, 7) сумасшедшие дома,
8) больницы, в особенности сифилитические и чахоточные, 9) страховые общества,
10) все обязательные и устраиваемые на насильственно собираемые средства
образовательные учреждения, 11) учреждения для малолетних преступников и многие
прочие.
Яценко читал эти слова, вдумываясь в их прямой смысл, и в
нем вставало то чувство недоумения, обиды, негодования, которое когда‑то
вызывало у него «Воскресение». Однако теперь Николай Петрович чувствовал и
другое. Суд, законы, даже образовательные учреждения ставились вровень с домами
терпимости! Но ужасные слова эти говорил один из умнейших, умнейших и
благороднейших людей мира, и говорил он это в восемьдесят лет, у края
могилы, – уж конечно не для того, чтобы удивлять или забавлять читателей
парадоксами. «Как же я могу во всем этом разобраться, и можно ли обыкновенному
человеку разумом понять, осмыслить жизнь?» – спросил себя Николай Петрович. Он
снова зашагал по комнате. «Быть может, призрачно и неразумие жизни… Да, все,
все призрачно… Не станет меня, как не стало Наташи, и где же будет то, чем мы
жили? Ее смех у бусовой двери в Ницце? Наша прогулка в Царском Саду? Моя
гимназия, которую я ей показывал…»
Николай Петрович остановился посредине камеры. Вдали,
наверху, раздался глухой бой, затем перешедший в музыку. Призрачная, очень
медленная музыка эта имела прямое отношение к его мыслям, она была в том
далеком, о чем он вспоминал. Яценко сразу понял, что это играют знаменитые
куранты Петропавловской крепости. Но ему не хотелось признать, что ничего
таинственного собственно не произошло. «Есть здесь какая‑то важная и странная
связь», – думал Николай Петрович, прислушиваясь к медленно гасшим наверху
звукам «Коль славен». Сердце у него билось и на глазах были слезы.
|


