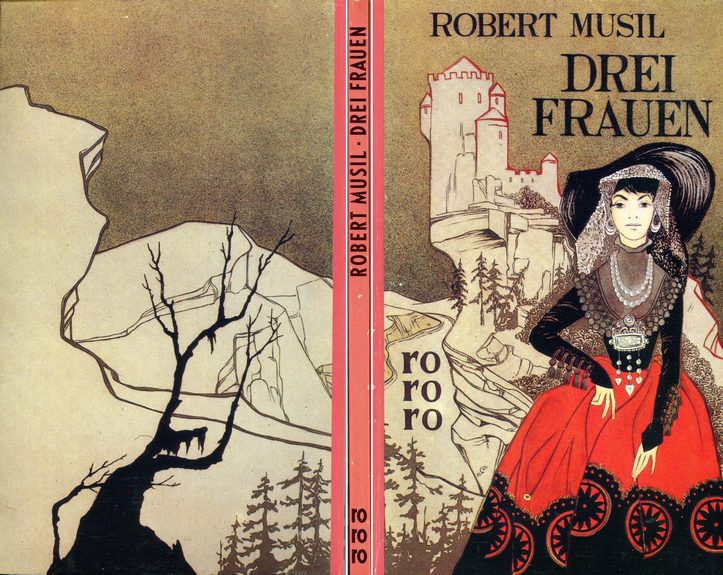
 Увеличить Увеличить |
II
С его стороны было непростительным легкомыслием устроить
Тонку сиделкой и компаньонкой к своей бабушке. Он был еще очень молод и прибег
к маленькой хитрости; золовка его матери знала Тонкину тетку, которая
подрабатывала белошвейкой в "хороших домах", и он подстроил так, что
ее спросили, не знает ли она какую-нибудь молодую девушку и так далее. Девушка
должна была присматривать за бабушкой и кроме жалованья получить потом кое-что
по завещанию, поскольку ожидалось, что года через два-три бабушка отмучается.
Но к тому времени уже случилось несколько незначительных
происшествий. Например, как-то раз он пошел вместе с ней купить что-то для
бабушки; на улице играли дети, и они оба вдруг увидели лицо ревущей маленькой
девочки оно кривилось и морщилось от слез как червяк, и солнце било прямо в
него. Он тогда с беспощадной отчетливостью разглядел вдруг за этим комочком
жизни ту же самую смерть, что ждала своего часа в бабушкиных комнатах. Но
Тонка, видите ли, "так любила маленьких!" - она наклонилась к
девочке, стала с ней шутить, утешать ее; для нее это зрелище было забавным и
ничего больше, хотя он и пытался ей внушить, что за этим скрывается и многое
другое. Но с какой стороны он ни подступался, он повсюду наталкивался на все ту
же непроницаемость мысли: Тонка не была глупой, но ей как будто что-то мешало
быть умной, и впервые тогда он почувствовал к ней эту щемящую жалость, для
которой так трудно найти объяснение.
В другой раз он спросил ее:
- Как долго вы, собственно говоря, живете у бабушки,
фройляйн? - И когда она ответила, он сказал: - Уже? Да-а, со старухой это
время, наверное, показалось вам вечностью...
- О! - удивилась Тонка. - А мне нравится.
- Да мне-то вы спокойно можете сказать правду. Не
представляю себе, чтобы молоденькой девушке это было так уж приятно.
- Это моя работа, - ответила Тонка и покраснела.
- Ну хорошо, работа. Но ведь хочется и чего-то другого в
жизни.
- Да.
- А у вас есть все, чего вам хочется?
- Нет.
- Да - нет, да - нет, - он уже начинал злиться, - что это за
разговор? Ну хоть обругайте нас! - Он видел, как ответы дрожали у нее на губах,
как она боролась с ними и в самую последнюю минуту их проглатывала, и ему вдруг
стало ее жаль: - Вы, наверное, меня не поймете, фройляйн: я вовсе не думаю
плохо о своей бабушке, не в этом дело, она несчастная женщина, но я смотрю на
нее сейчас не моими глазами, так уж я устроен. Я смотрю на нее вашими глазами,
и тогда она - просто отвратительная старая карга. Вы меня поняли?
- Да, - тихо сказала фройляйн и теперь уже вся залилась
краской. - Я еще раньше поняла. Только я не знаю, как это сказать.
Тут он рассмеялся.
- Такого со мной еще не бывало: чтобы человек чего-то не мог
сказать! Но теперь вы меня уж совсем раззадорили. Давайте я вам помогу. - Он
глянул ей прямо в глаза и тем смутил ее еще больше. - Ну, скажите: может быть,
вам доставляет удовольствие спокойно, добросовестно выполнять свои обязанности,
изо дня в день, все как положено? Да?
- О, я... я не понимаю, что вы хотите сказать; моя работа
мне нравится.
- Нравится - прекрасно. Но вас к ней тянет или нет? Ведь
есть люди, которым, кроме повседневной работы, ничего другого и не надо.
- Я... я не понимаю.
- Ну, есть ведь еще желания, мечты, честолюбие! Неужели вас
совсем не волнует вот такой день, как сегодня?
В каменной чаше города день дымился весенним медвяным
маревом.
Теперь засмеялась фройляйн:
- Ну что вы! Только ведь это совсем другое.
- Другое? Так что же, значит, вам нравятся полутемные
комнаты, разговоры шепотом, запах склянок с микстурами? Такие люди тоже бывают,
фройляйн, но я уже вижу по вашему лицу, что это опять не то.
Фройляйн Тонка покачала головой, и уголки ее губ чуть
опустились - в знак робкой иронии или просто от смущения. А он не отставал:
- Вот видите, как я все время попадаю впросак со своими
догадками - вы даже смеетесь надо мной. Может, это придаст вам смелости? Ну?
И тогда наконец она пояснила. Не сразу. Запинаясь.
Подыскивая слова, как будто ей приходилось втолковывать что-то необычайно
сложное для понимания:
- Надо же мне как-то зарабатывать. Господи - всего-то!
Ах, какой он был утонченный осел, и какая вековая каменная
глыба открылась за этими обыденными словами.
В другой раз они тайком ушли с Тонкой гулять; такие прогулки
они устраивали в Тонкины выходные - ей их давали дважды в месяц; стояло лето.
Когда наступил вечер, воздух стал таким же теплым, как руки и лицо; закроешь
глаза при ходьбе, и кажется, что ты целиком растворяешься и паришь в
беспредельном пространстве. Он сказал это Тонке; она засмеялась, и он спросил,
поняла ли она его.
О да.
Он не поверил и попросил ее пересказать своими словами; а
вот этого она не могла.
Тогда, значит, она не понимает.
Нет, почему же, - и вдруг: петь хочется!
Ну уж нет! Да! Препирались они довольно долго, но в конце
концов запели, - как выкладывают на стол вещественную улику или отправляются на
разведку местности. Пели они плохо, из оперетты, но, к счастью, Тонка пела
тихим голосом, и он был рад этому проблеску такта. Она наверняка
один-единственный раз в своей жизни была в театре, сказал он себе, и с тех пор
этот пошлый мотив для нее - воплощение красоты бытия. Но она даже эти несколько
мелодий слыхала только от своих подружек по магазину.
Неужели они ей действительно нравятся? Его всякий раз
раздражало, когда она вспоминала про свой магазин.
Тонка не знала, как это объяснить, и не знала, хороша эта
музыка или плоха; просто она пробуждала в ней мечту самой когда-нибудь выйти на
сцену и, не жалея сил, заставить людей смеяться от счастья или плакать от горя.
Это уж было совсем смешно - если еще видеть при этом Тонкино взволнованное
лицо; у него совсем испортилось настроение, и он уже не подпевал, а просто бурчал
себе под нос. Тонка оборвала на полуслове; она, видимо, тоже что-то
почувствовала, и некоторое время они шли молча, пока Тонка не остановилась и не
сказала:
- А мне вовсе и не так хотелось петь.
И, заметив, что его взгляд чуть-чуть потеплел, она тихо запела
снова, но на этот раз народные песни своего края. Они шли медленно, и эти
печальные напевы щемили душу, как белые бабочки в лучах солнца. И сразу вдруг
права оказалась Тонка.
Теперь уже он не мог объяснить, что с ним происходит, а
Тонке приходилось мучиться сознанием своей глупости и бесчувственности, потому
что она говорила не на обыкновенном языке, а на каком-то изначальном языке
самой природы. Тогда он все понял: песни просто приходят ей в голову. Он
подумал, что она очень одинока. Если бы не он, кто бы мог ее понять? И они
опять запели вместе. Тонка подсказывала ему незнакомый текст, тут же
переводила, и они, взявшись за руки, пели, как дети. Когда они останавливались,
чтобы перевести дух, там, впереди, где сумерки заволакивали дорогу, тоже наступала
мгновенная тишина; и хотя все это, конечно, было смешно и глупо, вечер сливался
с их чувствами в одно.
А еще как-то они сидели на опушке леса, он смотрел, сощурив
веки, только сквозь узкую щелочку между ними и молчал, занятый своими мыслями.
Тонка испугалась, решив, что опять его чем-то рассердила. Она несколько раз
набирала воздух, ища слов, но тут же робела и сникала. Так они сидели долго в
полном молчании, и кругом был слышен только томительный лепет леса, ежесекундно
возникавший и умолкавший то тут, то там. Один раз между ними вспорхнула бабочка
и уселась на цветок с тонким высоким стеблем; цветок вздрогнул от прикосновения
и закачался, а потом вдруг сразу замер, как оборвавшийся разговор. Тонка крепко
вдавила пальцы в мох, на котором они сидели; но крохотные стебельки через
секунду вновь выпрямились, ряд за рядом, и еще через секунду изгладился всякий
след от лежавшей на них руки. Хотелось плакать, неизвестно почему. Если бы
Тонка была научена думать так, как ее спутник, она почувствовала бы в эту минуту,
что природа состоит сплошь из невзрачных малостей, существующих в такой же
тоскливой отъединенности друг от друга, как звезды в ночи; божественная
природа; по его ноге поползла оса, голова ее была похожа на фонарь, и он все
время следил за ней. И смотрел на свой широкий черный ботинок, косо
перечеркивающий бурую полосу дороги.
Тонку и раньше охватывал страх при мысли, что однажды на ее
пути встанет мужчина и ей уже никуда не удастся свернуть. То, о чем с горящими
глазами рассказывали ей старшие подружки-продавщицы, было торопливой и
грубо-легкомысленной чувственностью, и всякий раз, когда мужчина и с ней
пробовал перейти на нежности, она ощетинивалась после первых же его слов.
Сейчас, когда она смотрела на своего спутника, ее вдруг что-то кольнуло в сердце;
до этой минуты она не задумывалась над тем, что находится в обществе мужчины,
потому что тут все было по-другому. Он лежал на спине, широко раскинув ноги,
опершись на локти и опустив голову на грудь; Тонка почти с испугом украдкой
заглядывала ему в глаза, а в них была какая-то странная улыбка; он закрыл один
глаз, глядя другим вдоль своего тела; он явно сознавал, что его торчащий
ботинок некрасив, и, наверное, сознавал также, что не Бог весть как это много -
лежать рядом с Тонкой на опушке леса, но ничего не мог поделать: все по
отдельности было некрасиво, а все вместе было счастьем. Тонка тихонько
поднялась. Кровь застучала вдруг у нее в висках, сердце заколотилось. Она не
понимала того, что он думал, но она все читала в его взгляде, и вдруг ей захотелось
обхватить его голову и закрыть ему глаза. Она сказала:
- Надо идти, а то совсем стемнеет. Когда они вышли на
дорогу, он сказал:
- Вы, наверное, скучали, но ко мне надо привыкнуть. Он взял
ее под руку, потому что смеркалось, и начал
оправдываться за свою молчаливость и - уже непроизвольно -
за свои мысли. Она не понимала того, что он говорил, но она по-своему
разгадывала его слова, звучавшие так серьезно в вечернем тумане. Когда же он
начал извиняться еще и за эту свою серьезность, она совсем запуталась, а
пресвятая дева Мария только подсказала ей, что надо крепче прижаться к его
руке, и Тонке стало ужасно стыдно.
Он погладил ее руку.
- Мы с вами добрые друзья, Тонка, но - понимаете ли вы меня?
Помедлив, Тонка ответила:
- Не важно, понимаю я или нет, я ведь все равно не сумею
ответить. Но мне нравится, что вы такой серьезный.
Конечно, это все были мелочи, но как странно, что ей
пришлось пережить их дважды - одни и те же! Собственно говоря, они были с ней
все время. И она не могла понять: как же это они позже вдруг стали означать
прямую противоположность тому, что означали в первый раз? Такой неизменной
оставалась Тонка, так проста и прозрачна была ее душа, что это было похоже на
галлюцинацию, - как будто тебе вдруг привиделись наяву совершенно невероятные
вещи.
|


