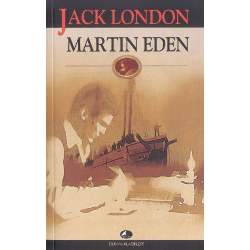
 Увеличить Увеличить |
Глава 45
Однажды к Мартину пришел Крейс, один из тех, которые из
«настоящего теста»; и Мартин радостно потянулся к нему, в ответ же получил
пылкий подробный рассказ о некой затее, достаточно сумасбродной, чтобы
заинтересовать скорее романиста, чем человека с деньгами. Посреди объяснений
Крейс ненадолго замолчал и вдруг заявил, что из большей части «Позора солнца»
ясно – Мартин спятил.
– Но я к вам пришел не философию разводить, – тут
же продолжал Крейс. – Мне вот что надо знать:
вложите вы в это предприятие тысячу долларов? – Нет, не
вложу, во всяком случае, не настолько уж я спятил, – ответил
Мартин. – Но я сделаю другое. Когда‑то я провел у вас самый замечательный
вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего не купишь за деньги. Теперь у меня
есть деньги, и они для меня ничего не значат. Я охотно уделю вам тысячу
долларов, которые вовсе не ценю, за то, что вы дали мне в тот вечер и что
бесценно. У вас нет денег. У меня их больше чем достаточно. Вам они нужны. За
ними вы и пришли. Незачем их выманивать хитростью. Вот, возьмите.
Крейс не выразил удивления. Сложил чек, спрятал в карман.
– На таких условиях я готов подписать договор и
обеспечить вам сколько угодно подобных вечеров, – сказал он.
– Слишком поздно, – Мартин покачал головой. –
Тот вечер для меня единственный и неповторимый. Я побывал в раю. Для вас‑то,
понятно, такое в порядке вещей. Для меня все было иначе. Никогда уже мне не
подняться на такие высоты. С философией я покончил. Больше и слышать о ней не
хочу.
– Первый раз в жизни заработал на своей
философии, – заметил Крейс, задержавшись в дверях. – И опять мои
акции упали до нуля.
Как‑то мимо Мартина по улице проехала миссис Морз, она
улыбнулась ему и кивнула. Он улыбнулся в ответ и приподнял шляпу. Встреча
ничуть его не задела. Месяцем раньше ему стало бы противно, а может быть, и
любопытно, и он стал бы гадать, о чем подумала в ту минуту миссис Морз. Теперь
же он просто не обратил внимания на эту встречу. Он тут же о ней забыл. Забыл,
как забывал, пройдя мимо, о здании Центрального банка или муниципалитета. И
однако ум его не знал ни минуты передышки. Мысль опять и опять шла по одному и
тому же кругу. Средоточием этого круга оставалось одно: «Моя работа была уже
сделана»; вот что непрестанно точило его. Эта мысль завладевала им поутру, едва
он просыпался. По ночам она отравляла его сны. Все, что происходило вокруг,
если только он вообще это замечал, тотчас связывалось с мыслью: «Моя работа
была уже сделана». Тропа безжалостной логики вела его к заключению, что он –
никто, ничто. Март Иден лихой парень, и Март Иден матрос – вот это был он,
живой, настоящий; но Мартина Идена знаменитого писателя на свете не было.
Мартин Иден знаменитый писатель – призрак, выдумка черни, стадным мышлением
черни втиснутая в живого, из плоти и крови, Марта Идена, лихого парня и
матроса. Но его не проведешь. Он не идол, которому поклоняется толпа, вместо
жертвенных даров преподнося ему обеды. Не так он глуп.
Он читал про себя в журналах, вглядывался в напечатанные там
свои фотографии, и под конец ему начинало казаться, что и лицо это– не его. Он
тот парень, который жил, и трепетал от восторга, и любил; был беззаботен, легко
сносил всяческие неурядицы и прощал другим их грешки; служил простым матросом,
ходил в плавание в диковинные края и верховодил своими приятелями в драках
былых лет. Он тот парень, который поначалу опешил перед тысячами книг в
бесплатной библиотеке, а потом научился в них разбираться и одолел их; он тот
парень, который до полуночи не гасил свет, и вскакивал по будильнику, и сам
писал книги. Но, вот нелепый обжора, которого усердно пичкает торжественными
обедами чернь, – это не он.
Попадалось в журналах и такое, что его забавляло. Все они
заявляли на него права. «Ежемесячник Уоррена» уверял своих подписчиков, что, в
неустанном поиске новых талантов, именно он представил читающей публике и
Мартина Идена. На то же претендовала «Белая мышь», и «Северное обозрение», и
«Журнал Макинтоша», пока всех не заглушил «Глобус». Этот победоносно ссылался
на свои старые номера, где похоронены были искалеченные «Голоса моря». «Юность
и время», который, уклонившись от оплаты счетов, снова ожил, тоже объявил о
своем преимущественном праве на Мартина, но никто, кроме фермерских детей,
этого не прочел. «Трансконтинентальный» горделиво и убедительно поведал, как он
первый открыл Мартина Идена, и «Оса» горячо заспорила, похваляясь «Пери и
жемчужиной». В этом назойливом шуме совсем потонуло скромное притязание
издательства «Синглтри, Дарнли и К°». К тому же у этой издательской фирмы не
было своего журнала, благодаря которому голос ее стал бы слышнее.
Газеты подсчитывали гонорары Мартина. Стало известно о
щедрых предложениях, которые делали ему иные журналы, и к нему стали запросто
обращаться за пожертвованиями оклендские священнослужители, а любители жить на
подачки засыпали его письмами. Но хуже всего оказались женщины. Фотографии
Мартина печатались всюду и везде, а газетчики всячески расписывали его
мужественное, бронзовое от загара лицо, его шрамы, могучие плечи, ясные,
спокойные глаза и слегка впалые щеки аскета. Наткнувшись на «аскета», Мартин с
улыбкой вспомнил свою бесшабашную юность. Среди женщин, которых он теперь
встречал, нередко то одна, то другая устремляла на него взгляд оценивающий,
благосклонный. Он смеялся про себя. Вспоминал предостережение Бриссендена и
опять смеялся. Что‑что, а женщинам его не погубить. Это все в прошлом.
Однажды Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, и она
перехватила взгляд, который бросила на него хорошо одетая красивая дама. Взгляд
задержался чуть дольше, был несколько внимательней, чем полагается, Лиззи
поняла, что он означает, вся гневно напряглась. Мартин заметил это, заметил и
причину и сказал, что уже привык к таким взглядам, на него это вовсе не
действует.
– Должно действовать, – сказала Лиззи, глядя на
него горящими глазами. – Больной ты, потому и не действует.
– В жизни не был здоровее. В весе и то прибавил, целых
пять фунтов.
– Ты не телом больной. С головой неладно. Как‑то не так
у тебя шарики крутятся. Даже мне видать, а кто я такая.
Мартин задумался, молча шел с ней рядом.
– Я бы все отдала, чтоб это у тебя прошло, –
вырвалось у Лиззи. – На такого мужчину да не действует, когда женщина эдак
поглядит. Куда это годится. На хлипкого какого не действует, это еще ладно. А
ты ж не из таких. Убей меня бог, Мартин, пускай хоть какая тебя растормошит, я
все одно порадуюсь.
Мартин довел Лиззи до дверей вечерней школы и вернулся в
«Метрополь».
У себя в номере он опустился в глубокое кресло, и сидел и
смотрел в одну точку. Не задремал он. И ни о чем не думал. В голове не было ни
мыслей, ни воспоминаний, лишь изредка перед закрытыми глазами всплывали
незваные картины прошлого, отчетливые, красочные, лучезарные, Мартин видел их
будто не осознанно, как во сне. Но он не спал. В какую‑то минуту встряхнулся,
посмотрел на часы. Ровно восемь. Дел никаких, а ложиться спать слишком рано. И
опять в голове ни мыслей, ни воспоминаний, а перед закрытыми глазами появляются
и исчезают картины. Странные картины. Все какая‑то листва, и ветви, похоже,
кустарника, и все насквозь пронизано солнечными лучами.
Очнулся он от стука в дверь. Он не спал и сразу решил:
стучат, значит, телеграмма, или письмо, или может, горничная принесла белье из
прачечной. Он подумал о Джо: где‑то его теперь носит. И отозвался машинально:
– Войдите.
Все еще занятый мыслями о Джо, он не обернулся к двери.
Услыхал, как ее тихонько притворили. Надолго воцарилась тишина. Он забыл про
стук в дверь, сидел, тупо уставясь в одну точку, и вдруг услышал женское
рыданье. Невольный, судорожный, подавленный, придушенный всхлип. Все это Мартин
мысленно отметил, пока оборачивался. Миг – и он вскочил.
– Руфь! – вымолвил он пораженный, не веря глазам.
Она была страшно бледная, вся как натянутая струна. Стояла у
самой двери, одной рукой держалась за косяк, другая прижата к груди. Потом
жалобно протянула руки и шагнула навстречу Мартину. Он взял ее за руки, повел к
креслу, и при этом заметил
– они холодные как лед. Придвинул другое кресло, сел на
широкий подлокотник. Он был растерян, не мог вымолвить ни слова. Ведь он не
сомневался, что между ними все кончено бесповоротно. И теперь чувство было
примерно такое же, как если бы прачечная гостиницы в Горячих ключах вдруг
наводнила гостиницу «Метрополь» грязным бельем за целую неделю и ему надо было
сейчас же все это перестирать. Несколько раз хотел он заговорить и всякий раз
не решался.
– Никто не знает, что я здесь, – еле слышно
сказала Руфь и очаровательно улыбнулась.
– Что ты сказала? – переспросил Мартин. Звук
собственного голоса удивил его. Руфь повторила.
– А‑а, – только и ответил он и помедлил, не находя
слов.
– Я видела, как ты вернулся, и несколько минут выждала.
– А‑а, – опять сказал Мартин.
Никогда еще ему так не изменял дар речи. В голове ни единой
мысли. Он чувствовал себя тупым и неловким, но, хоть убей, не знал, что
сказать. Да было бы легче, если бы сюда вторглась прачечная Горячих ключей. Он
бы просто засучил рукава и принялся за работу.
– А потом ты вошла, – сказал он наконец. Она
кивнула не без лукавства и чуть распустила шарф на шее.
– Сначала я увидела тебя на другой стороне улицы с той
девушкой.
– А, да, – просто сказал Мартин. – Я провожал
ее в вечернюю школу.
– Так что же, ты мне не рад? – спросила Руфь после
нового короткого молчания.
– Да, да, – поспешно ответил Мартин. – Но
ведь это неосторожно, что ты пришла сюда?
– Я проскользнула незаметно. Никто не знает; что я
здесь. Я очень хотела тебя видеть. Я пришла сказать тебе, что была ужасно
глупая. Я пришла, потому что больше не могу без тебя, потому что сердце рвалось
к тебе, потому что… потому что очень хотела прийти.
Она встала с кресла и подошла к нему. Часто дыша, положила
руки ему на плечо, еще миг – и прильнула к нему, а Мартин по неизменной своей
доброте и снисходительности вовсе не желал ее обидеть, он понимал, что
оттолкнуть ее, когда она вот так рванулась к нему, – значит жестоко ее
оскорбить, ибо нет для женщины обиды горше, и он обнял Руфь и прижал к себе. Но
не было жара в этом объятии, не было нежности. Она прижалась к нему, вот он ее
и обнял, только и всего. Руфь прильнула к нему, а потом потянулась, обхватила
руками его шею. Но его не обдало жаром, лишь было неловко и неудобно.
– Почему ты так дрожишь? – спросил он. – Тебе
холодно? Зажечь камин?
Он хотел высвободиться, но она крепче прижалась к нему, ее
трясло.
– Это просто нервы, – стуча зубами, сказала
она. – Сейчас возьму себя в руки. Ну вот, мне уже лучше.
Дрожь понемногу утихла. Мартин все держал Руфь в объятиях,
но недоумевать перестал. Теперь он знал, зачем она пришла.
– Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда, –
объявила Руфь.
– Чарли Хэпгуд? Это тот, который всегда изрекает
прописные истины? – тяжко вздохнув, сказал Мартин. Потом прибавил: – А
теперь, я полагаю, твоя мамаша хочет, чтобы ты вышла за меня.
Это был не вопрос. Мартин сказал это вполне уверенно, и у
него перед глазами заплясали ряды цифр – его гонорары.
– Возражать она не станет, я знаю, – сказала Руфь.
– Она считает, что я подходящий для тебя муж?
Руфь кивнула.
– А ведь теперь я в точности такой же, как был, когда
она разорвала нашу помолвку, – вслух размышлял Мартин. – Я совсем не
изменился. Я тот же самый Мартин Иден, даже стал хуже – я теперь курю. Ты разве
не чувствуешь, как от меня несет табаком? В ответ Руфь прижала к его губам
пальчики – очень мило, игриво, в ожидании поцелуя, которым Мартин, бывало,
отзывался на это. Но нежного поцелуя не последовало. Мартин подождал, пока она
отняла пальчики, и продолжал:
– Я остался каким был. Я не устроился на службу. И не
ищу службу. Больше того, и не собираюсь искать. И по‑прежнему убежден, что Герберт
Спенсер великий, благородный человек, а судья Блаунт непроходимо глуп. Я на
днях у него обедал, лишний раз убедился.
– Но ты не принял папино приглашение, – упрекнула
Руфь.
– Значит, тебе это известно! Кто его послал? Твоя
мамаша?
Руфь молчала.
– Значит, и вправду она его подослала. Так я и думал. А
теперь, надо полагать, она послала тебя?
– Никто не знает, что я здесь, – запротестовала
Руфь. – Ты думаешь, мама бы мне разрешила?
– Выйти за меня замуж она тебе разрешила, это уж
наверняка.
– О, Мартин, зачем ты такой жестокий! – вскричала
Руфь. – Ты даже ни разу меня не поцеловал. Ты как каменный. Подумай, на
что я решилась! – Вздрогнув, она огляделась по сторонам, хотя во взгляде
ее сквозило и любопытство. – Подумай только, куда я пришла.
«Я хоть сейчас умру за тебя! Хоть сейчас!»– зазвучали в ушах
у Мартина слова Лиззи.
– Почему ты не решилась на это раньше? – резко
спросил он. – Когда у меня не было работы? Когда я голодал? Когда я был
тот же, что теперь, – как человек, как художник, тот же самый Мартин Иден?
Вот вопрос, над которым я бьюсь уже много дней, – это не только тебя
касается, но всех и каждого. Ты видишь, я не изменился, хотя меня вдруг стали
очень высоко ценить и приходится все время напоминать себе, что я – прежний. Та
же плоть у меня на костях, те же самые пальцы на руках и на ногах. Я тот же
самый. Я не стал ни сильнее, ни добродетельнее. И голова у меня все та же. Я не
додумался ни до единого нового обобщения ни в литературе, ни в философии. Как
личность я стою ровно столько же, сколько стоил, когда никому не был нужен. А
теперь чего ради я им вдруг понадобился, вот что непостижимо. Сам по себе я им
наверняка не нужен, ведь я все такой же, как прежде, когда не был им нужен.
Значит, я нужен им из‑за чего‑то еще, из‑за чего‑то, что вне меня, из‑за того,
что не я! Сказать тебе, в чем соль? Я получил признание. Но признание– вовсе не
я. Оно обитает в чужих умах. И еще я всем нужен из‑за денег, которые заработал
и зарабатываю. Но и деньги – не я. Они есть и в банках и в карманах первого
встречного. Так что же, из‑за этого я тебе теперь понадобился – из‑за признания
и денег?
– Ты разбиваешь мне сердце, – сквозь слезы
вымолвила Руфь. – Ты ведь знаешь, я люблю тебя, и я здесь оттого, что
люблю тебя.
– Боюсь, ты не уловила мою мысль , – мягко сказал
Мартин. – Я о чем говорю: если ты меня любишь, как же это получилось, что
теперь ты любишь меня гораздо сильнее, чем прежде, когда твоей любви хватило
лишь на то, чтобы мне отказать?
– Забудь и прости, – воскликнула Руфь. –
Помни лишь, что я все время любила тебя! И теперь я здесь с тобой.
– Боюсь, я расчетливый купец, глаз не спускаю с весов,
стараюсь взвесить твою любовь и понять, что она такое.
Руфь высвободилась из рук Мартина, выпрямилась, посмотрела
на пего долгим испытующим взглядом. Хотела было заговорить, но заколебалась и
передумала.
– Понимаешь, мне вот так это представляется, –
продолжал Мартин. – Когда я был совершенно такой же, как теперь, никто,
кроме людей из моего прежнего окружения, ни в грош меня не ставил. Когда все
мои книги были уже написаны, никто из тех, кто читал рукописи, ни в грош их не
ставил. В сущности, сочинительство даже роняло меня в их глазах. Словно это
занятие если не вовсе позорное, то предосудительное. Все и каждый твердили:
«Иди работать».
Руфь знаком показала, что не согласна.
– Да‑да, все, кроме тебя, – сказал Мартин, –
ты называла это «добиться положения в обществе». Простое слово «работа», как
многое из написанного мною, тебя оскорбляет. Звучит слишком грубо. Но поверь,
было не меньшей грубостью, когда все вокруг поучали меня, как лодыря без стыда
и совести. Но не будем отвлекаться. Меня напечатали, публика меня заметила, и
от этого твоя любовь совершенно преобразилась. За Мартина Идена, чья работа
была уже сделана, чьи книги были уже написаны, ты выходить не хотела. Твоя
любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы ты стала его женой. А теперь она
достаточно сильна, и я поневоле делаю вывод: любовь твоя стала сильнее оттого,
что меня напечатали и публика меня заметила. О гонорарах не упоминаю, ты о них,
пожалуй, не думала, но, уж конечно, твои родители стали относиться ко мне по‑другому
в том числе и из‑за них. Все это, разумеется, не лестно для меня. Но, что еще
хуже, заставляет меня усомниться в Любви, в таинстве любви. Неужто любовь так
примитивна и вульгарна, что должна питаться внешним успехом и признанием толпы?
Похоже на то. Я сидел и думал об этом, пока у меня голова не пошла кругом.
– Бедная, дорогая моя голова. – Руфь подняла руку,
ласково провела по волосам Мартина. – Пусть больше не идет кругом.
Попробуем начать сначала. Я все время тебя любила. Да, конечно, я оказалась
слабой, подчинилась маме. Мне не следовало так поступать. Но ведь ты так часто
и с такой снисходительностью говорил о человеческих слабостях и заблуждениях.
Будь снисходителен и ко мне. Я ошиблась. Прости меня.
– Да простил я, – нетерпеливо сказал
Мартин. – Когда, в сущности, нечего прощать, простить легко. Ты не сделала
ничего такого, что требует прощения. Каждый поступает как умеет, большего не
дано. С таким же успехом я могу просить у тебя прощения за то, что не шел
работать.
353
– Я желала тебе добра, – горячо заверила
Руфь, – Ты же знаешь. Как я могла любить тебя и не желать тебе добра.
– Верно. Но, желая мне добра, ты бы меня загубила. Да,
да, – отмел он ее попытку возразить. – Ты загубила бы меня как
писателя, загубила бы дело моей жизни. Я по природе своей реалист, а буржуазии
по самой ее сути реализм ненавистен. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И ты
всячески внушала мне страх перед жизнью. Ты бы ограничила меня рамками
приличий, загнала бы меня в закуток жизни, где все жизненные ценности искажены,
фальшивы, опошлены. – Руфь опять хотела было возразить. – Пошлость –
да, именно так, махровая пошлость – это основа буржуазной утонченности и
культуры. Повторяю, ты хотела ограничить меня рамками приличий, сделать из меня
такого же буржуа, с вашими классовыми идеалами, классовыми понятиями и
классовыми предрассудками, – Мартин невесело покачал головой.
– Ты даже сейчас не понимаешь, о чем я говорю. Тебе
кажется, все это просто мое воображение. А для меня это сама правда жизни. В
лучшем случае тебя немножко озадачивает и забавляет, как это неотесанный
парень, едва выбравшись из трясины невежества, берется судить о твоем сословии
и называет его пошлым.
Руфь устало опустила голову к нему на плечо, и по телу ее
опять прошла нервная дрожь. Мартин подождал, не заговорит ли она, потом
продолжал.
– Тебе теперь нужно возродить нашу любовь. Нужно, чтобы
мы поженились. Нужен я. Но слушай… если бы мои книги остались незамеченными, я
все равно был бы таким, какой я есть. А ты бы сторонилась меня. И все из‑за
этих чертовых книг…
– Не ругайся, – прервала Руфь. От ее упрека Мартин
опешил. Он горько рассмеялся.
– Вот‑вот, решающая минута, на карту поставлено, как
тебе кажется, все твое счастье, а ты по‑прежнему боишься жизни… боишься жизни и
крепкого словца.
Уязвленная его словами, она поняла нелепость своего упрека и
все же решила, что он уж слишком преувеличивает, и обиделась. Они долго сидели
молча, Руфь совсем приуныла, а Мартин размышлял об ушедшей своей любви. Теперь
он знал, что настоящей любви не было. Он любил Руфь своей мечты, небесное
создание, которое сам же и сотворил, светлую, сияющую музу своих стихов о
любви. Подлинную Руфь, маленькую буржуазку, со всеми присущими ее среде
недостатками и с безнадежно ограниченной истинно буржуазной психологией, он
никогда не любил.
Она вдруг заговорила.
– Да, многое из того, что ты сказал, правда. Я боялась
жизни. Я недостаточно тебя любила. Я научилась любить лучше. Я люблю тебя за
то, какой ты есть, и каким был, даже за то, как ты сумел стать таким. Люблю за
то, чем ты непохож на всех, кого называешь моим классом, за твои убеждения, я
их не понимаю, но непременно сумею понять. Всеми силами постараюсь – и пойму. И
даже то, что ты куришь и ругаешься – это часть тебя, и я полюблю в тебе и это.
Я еще могу научиться. За последние десять минут я многому научилась. Ведь вот я
осмелилась прийти сюда, это знак, что чему‑то я уже научилась. Ох, Мартин… Она
расплакалась и прильнула к нему.
Впервые он обнял ее с нежностью и сочувствием, и лицо ее
просветлело, она благодарно прижалась к нему еще теснее.
– Слишком поздно, – сказал он. Ему вспомнились
слова Лиззи. – Я болен… нет‑нет, не телом. Больна душа, мозг. Как будто
все утеряло для меня цену. Все стало безразлично. Будь ты такая несколько
месяцев назад, все, пожалуй, было бы иначе. Теперь слишком поздно.
– Нет, не поздно! – воскликнула Руфь. – Вот
увидишь. Я докажу тебе, что моя любовь выросла, она для меня больше, чем этот
мой класс и все, что мне дорого. Я отброшу все, чем дорожат буржуа. Я больше не
боюсь жизни. Я оставлю отца и мать, и пусть у моих друзей мое имя станет
притчей во языцех. Я останусь с тобой, прямо сейчас, и, если захочешь, пусть
это будет свободная любовь, и я буду горда и счастлива, что я с тобой. Раньше я
предала любовь, но теперь ради любви я предам все, что толкнуло меня на ту
прежнюю измену.
Она стояла перед ним, глаза ее сияли.
– Я жду, Мартин, – прошептала она, – жду
твоего согласия. Посмотри на меня!
Великолепно, подумал он, глядя на Руфь. Она искупила все
свои слабости, восстала наконец, как истая женщина, презрела железные правила
буржуазных условностей. Великолепно, блистательно, безрассудно. Но что же это с
ним? Ее смелость не восхитила его, не взволновала. Только умом понимает он, как
это блистательно, великолепно. Ему бы загореться, а он холодно оценивает ее.
Сердце молчит. И нет ни тени желания. Опять вспомнились слова Лиззи.
– Я болен, очень болен, – Мартин безнадежно
покачал головой. – Только теперь и понял, как я болен. Что‑то ушло из
меня. Я никогда не боялся жизни, но у меня и в мыслях не было, что я могу ею
пресытиться. А теперь я сыт по горло и ничего больше не хочу. Если бы я еще мог
чего‑то хотеть, я сейчас пожелал бы тебя. Сама видишь, как я болен!
Мартин откинул голову и закрыл глаза; и как плачущий,
ребенок забывает о своем горе, заглядевшись на солнечный свет, проникший сквозь
мокрые от слез ресницы, так и Мартин забыл о своей болезни, о Руфи, обо всем,
глядя, как сквозь густую массу зелени пробивается жаркий солнечный свет и
слепящими лучами льется, под опущенные веки. Она не приносит покоя, эта зеленая
листва. Слишком резок, слишком ярок солнечный свет. Смотреть больно, а он все
смотрит, сам не зная почему.
Он очнулся от стука дверной ручки. Руфь стояла у двери.
– Как мне отсюда выйти? – спросила она со слезами
в голосе. – Я боюсь.
– Ох, прости, – Мартин вскочил. – Видишь, я
сам не свой. Я и забыл, что ты здесь. – Он прижал руку ко лбу. –
Понимаешь, я не в себе. Сейчас провожу тебя домой. Выйдем черным ходом. Никто
нас не увидит. Опусти вуаль, и все обойдется.
Крепко держа его под руку, шла она по тускло освещенным
коридорам, спускалась по узкой лестнице.
– Теперь я в безопасности, – сказала Руфь, едва
они вышли на улицу, и хотела отнять руку.
– Нет‑нет, я провожу тебя до дому, – отозвался
Мартин.
– Нет, пожалуйста, не надо, – возразила
она. – Это совершенно лишнее.
Опять она попыталась высвободить руку. Мартина взяло
любопытство. Сейчас когда ничто ей не грозит, она боится. Панически хочет
отделаться от него. Но ведь теперь ей бояться нечего, должно быть, это просто
нервы. И Мартин удержал ее руку и пошел вместе с ней. Они прошли с полквартала,
и вдруг впереди какой‑то человек в длинном пальто отпрянул в подъезд. Проходя
мимо, Мартин мельком заглянул в подъезд и, несмотря на поднятый воротник, узнал
брата Руфи, Нормана.
По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была
оглушена случившимся. Он – равнодушен. Он упомянул, что уезжает, возвращается в
Южные моря, а она попросила прощенья за то, что пришла. Вот и все разговоры. У
ее подъезда они чинно распрощались. Пожали друг другу руки, пожелали доброй ночи,
Мартин приподнял шляпу. Дверь захлопнулась, Мартин закурил и повернул обратно,
к гостинице. Проходя мимо подъезда, в котором прежде укрылся Норман, Мартин
остановился и в раздумье заглянул туда.
– Она лгала, – сказал он вслух. – Старалась
внушить мне, что поступила безрассудно смело, а сама знала, что брат, который
ее привел, ждет, чтобы проводить ее обратно. – Мартин расхохотался. –
Ох, уж эти буржуа! Когда у меня не было ни гроша, я, видите ли, недостоин был
показаться рядом с его сестрой. А когда у меня завелся счет в банке, он сам
приводит ее ко мне.
Мартин повернулся на каблуках, двинулся было дальше, и тут
бродяга, идущий в ту же сторону, окликнул его мимоходом:
– Слышь, мистер, может, дашь четвертак на ночлег?
Не слова, а голос заставил Мартина круто обернуться. Миг
– и он уже стискивал руку Джо.
– Не забыл, как мы с тобой распрощались в Горячих
ключах?
– говорил Джо. – Я тогда сказал, мы, мол, еще
встретимся. Прямо чуял. И вот нате.
– А ты молодцом, – любуясь им, сказал
Мартин. – И раздобрел.
– Ну ясно, – Джо так и сиял. – Покуда не
пошел бродяжить, знать не знал настоящей‑то жизни. Тридцать фунтов поднабрал и
чувствую себя лучше некуда. В те‑то дни я как вол работал, стал кожа да кости.
А вот бродяжить – это по мне.
– Да, но на ночлег у тебя денег нет, – проворчал
Мартин, – а ночь холодная.
– Чего? На ночлег нету? – Джо сунул руку в карман
штанов и вытащил горсть мелочи. – Спину гнувши столько не
заработаешь, – ликовал Джо, – Больно ты шикарный, вот я к тебе и
подъехал.
Мартин со смехом сдался.
– У тебя тут не на один стаканчик, – намекнул он.
Джо ссыпал деньги в карман.
– Не пойдет, – объявил он. – С выпивкой
покончил, не из‑за чего такого, просто сам не желаю. Мы как с тобой расстались,
я раз только и накачался, и то промашка вышла, потому на голодное брюхо. Я
когда работаю зверски, так и пью зверски. А живу как человек, стало быть, и пью
как человек – опрокину стаканчик, если есть охота, и крышка.
Мартин сговорился назавтра с ним увидеться и пошел в
гостиницу. Задержался у конторки портье, посмотрел расписание пароходов. Через
пять дней на Таити отходила «Марипоза».
– Позвоните завтра и закажите мне отдельную
каюту, – сказал он портье. – Не на палубе, а внизу, с наветренной
стороны, с левого борта, запомните, с левого борта! Запишите‑ка лучше.
У себя в номере он тотчас лег в постель и уснул сном
младенца. Все, что произошло в этот вечер, не затронуло душу. Душа ко всему
оставалась глуха. Мимолетна была и радость от встречи с Джо. Уже через минуту и
сам Джо, и необходимость вести с ним разговор стали ему тягостны. Ничего не
значило и предстоящее через пять дней отплытие к любимым Южным морям. Итак,
Мартин закрыл глаза и спокойно, безмятежно проспал восемь часов. Ничто не
тревожило его сон. Он не ворочался, спал без сновидений. Уснуть – значило
забыться и, просыпаясь по утрам, он просыпался нехотя. Жизнь надоела и постыла,
и неизвестно было, как убить время.
|


