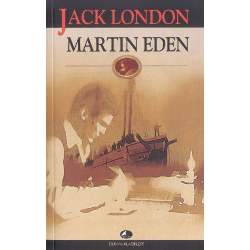
 Увеличить Увеличить |
Глава 15
«Первый бой позади, – сказал Мартин зеркалу десять дней
спустя. – Но предстоит второй бой, и третий, и еще многое множество, разве
что…»
Он не договорил, оглядел свою жалкую каморку, с грустью
задержался взглядом на кипе возвращенных рукописей в больших конвертах, что так
и лежали в углу на полу. Нет марок, чтобы снова отправить их странствовать, и
вот уже неделю они все прибывают и прибывают. А завтра, и послезавтра, и
послепослезавтра будут возвращаться еще другие, пока не вернутся все до одной.
А он не сможет отослать их снова. Он уже на месяц опоздал с платой за взятую
напрокат машинку и не может уплатить, денег осталось только на недельную плату
за стол и жилье да на взнос в бюро по найму.
Он сел, задумчиво уставился на стол. На нем полно чернильных
пятен. Кляксы, кляксы… и вдруг ощутил самую настоящую нежность.
–Дружище, – сказал он столу, – я провел с тобой
немало счастливых часов, и, в сущности, ты был мне предан. Ты ни разу не отверг
меня, ни разу не послал мне листка с незаслуженным отказом, ни разу не
пожаловался, что работаешь сверх сил.
Он уронил руки на стол, уткнулся в них лицом. У него
перехватило горло, он чуть не заплакал. И вспомнилось его первое сражение, в
шесть лет, он тогда отбивался кулаками, по щекам бежали слезы, а его противник,
двумя годами старше, лупцевал и тузил его так, что Мартин совсем обессилел. Он
упал наконец, корчась в приступах тошноты, из носа струилась кровь, из подбитых
глаз градом катились слезы, а кольцом обступившие их двоих мальчишки дико
вопили.
– Бедняга ты, малец, – пробормотал он. –
Опять попал в такую же переделку. Совсем тебя измордовали.. И нет больше сил.
Картина того первого сражения еще стояла перед глазами, а
потом истаяла и ее сменяли чередой дальнейшие сражения. Через полгода Чурбан
(так прозвали того мальчишку) опять его излупил. Но на этот раз и Мартин подбил
ему глаз. Здорово получилось! Мартину привиделись все эти сражения, одно за
другим, и всякий раз Чурбан торжествовал победу. Но Мартин никогда не удирал. И
воспоминание об этом прибавило ему сил. Он всегда оставался и стойко переносил
удары. Чурбан, злобный чертенок, никогда его не щадил. А он держался. Не сдавался,
и все тут!
Потом ему привиделся узкий проулок меж ветхими бараками.
Проулок упирался в одноэтажную кирпичную постройку, откуда доносился мерный
грохот печатных машин, – там печатали первый выпуск «Любознательного». Ему
было в ту пору одиннадцать, Чурбану– тринадцать, и оба продавали
«Любознательного» на улицах. Оттого они там и оказались‑ждали газету. И конечно
же, Чурбан опять на него налетел, только драка окончилась ничем, потому что без
четверти четыре двери печатного цеха растворились и вся орава мальчишек
кинулась разбирать газеты.
– Завтра положу тебя на обе лопатки, – услышал он
обещание Чурбана, услышал и свой тоненький, дрожащий от накипающих слез голос,
мол, завтра сразимся. И назавтра он пришел, бегом бежал из школы, чтобы поспеть
первым, на две минуты опередил Чурбана. Мальчишки говорили, он молодец и
надавали ему советов, и толковали, как и в чем он сплоховал, и сулили ему
победу, пускай только дерется как ему сказано. И те же мальчишки надавали
советов и Чурбану. А как наслаждались они, глядя на драку! Мартин задержался на
этом воспоминании и позавидовал: отличное представление устроили они с Чурбаном
для тех мальчишек! Драка разгорелась и длилась целых полчаса без перерывов,
пока не отворилась дверь печатного цеха.
Он видел себя мальчишкой, и день за днем он спешил из школы
к типографии. Ходить быстро он не мог. Из‑за бесконечных драк он хромал,
двигался с трудом. Руки от кисти до локтя были сплошь в синяках‑даром, что ли,
он отражал бессчетные удары, кое‑где ссадины и ранки гноились. Голова и плечи
болели, болела спина, не было на нем живого местечка, в голове‑тяжесть и муть.
В школе он не играл, и не учился тоже. Даже неподвижно просидеть весь день за
партой, не вставая и в перемену, и то было мукой. Казалось, эти ежедневные
сражения начались тысячи лет назад, жизнь обратилась в нескончаемую пытку и не
будет этим ежедневным дракам конца. Почему же это он никак не одолеет Чурбана?‑часто
думал он, ведь тогда конец его, Мартина, мучениям. Ни разу не пришло ему в
голову отказаться от драки, признать себя окончательно побежденным.
И вот он тащится в проулок, измученный телом и душой, зато
постигает науку истинного упорства, противостоит своему вечному врагу, Чурбану,
а тот, мучаясь не меньше, уже готов бы покончить с этими драками, если бы не
эта орава мальчишек‑газетчиков, ведь они ждут зрелища, и, как ни тяжко, надо
быть гордым. Однажды после двадцати минут отчаянных попыток изничтожить друг
друга, не нарушая правил, не разрешающих лягаться, бить ниже пояса, ударить
поверженного, Чурбан, задыхаясь и едва держась – на ногах, предложил считать,
что они квиты. И сейчас за столом, уронив голову на руки, Мартин со счастливым
волнением видел себя в тот далекий миг – его шатает, он задыхается, давится
кровью с разбитых губ, и все равно неверной походкой движется на Чурбана,
сплевывает кровь, чтобы заговорить, и орет, что никакие не квиты, а если Чурбан
желает, пускай сдается. Но нет, Чурбан не сдался и сражение продолжалось.
На другой день, и на третий, и еще бессчетное множество раз
проулок был свидетелем их сражений. Каждый день перед началом, едва он
замахивался, его пронизывала боль, и первые удары, которые они наносили друг
другу, были нестерпимо мучительны: а потом все ощущения притуплялись, и он
дрался вслепую, подпрыгивал, пританцовывал, уклонялся от ударов, и, словно во
сне, виделись ему крупные черты, горящие звериные глазки Чурбана. Только это он
и видел, все остальное вокруг лишь кружащаяся в вихре пустота. Ничего нет в
мире, кроме этого лица, и вовек не будет покоя, блаженного покоя, пока он,
Мартин, не разобьет его в лепешку кровоточащими кулаками или пока кровоточащие
кулаки, имеющие какое‑то отношение к этому лицу, не разобьют в лепешку его
самого. И уж тогда он так ли, эдак ли обретет покой. А счесть, что они квиты,
просто квиты, – нет, невозможно.
Наступил день, когда он приплелся в проулок, а Чурбана там
не было. Чурбан не пришел. Мальчишки поздравили его, сказали, он победил
Чурбана. Но Мартин не был удовлетворен. Не победил он Чурбана, и Чурбан его не
победил. Дело кончилось ничем. Лишь потом они узнали, что в тот самый день у
Чурбана неожиданно умер отец.
–Мартин перенесся через годы в Аудиториум, на галерку. Было
ему семнадцать, и он только что вернулся из плаванья. Началась заварушка. Кто‑то
к кому‑то пристал, Мартин вступился, и перед ним оказались горящие глаза
Чурбана.
– Разделаюсь с тобой после представленья, –
прошипел его давний враг, Мартин кивнул. К ним, учуяв заварушку, уже спешил
вышибала.
– Жду тебя на улице после представленья, –
прошептал Мартин, а по лицу его можно было подумать, будто он поглощен
танцорами, выплясывающими на сцене в деревянных башмаках.
Вышибала свирепо на них глянул и отошел.
– Ты с компанией? – спросил Мартин в перерыве.
– Ясно.
– Тогда и я себе сыщу, – объявил Мартин. В
антракте он сыскал подмогу – троих ребят, которых знал по гвоздильной мастерской,
пожарного с железной дороги, полдюжины любителей пошуметь и еще столько же из
компании, приводившей в трепет весь квартал Восемнадцатой – Маркет‑стрит.
В потоке зрителей, хлынувшем из театра, обе компании
незаметно разошлись на противоположные стороны улицы. Потом на безлюдном углу
сошлись держать военный совет.
– Мост Восьмой улицы самое подходящее, – сказал
рыжий парень из компании Чурбана. – Драться можно посередке под фонарем, а
появятся фараоны, дадим деру в другую сторону.
– Ладно, идет, – сказал Мартин, посоветовавшись с
заводилами из своих.
Мост Восьмой улицы, переброшенный через один из рукавов
дельты Сан‑Антонио, в длину не меньше трех городских кварталов. Посреди моста и
по концам горели электрические фонари. И эти крайние фонари не дадут ни одному
полицейскому ступить на мост незамеченным. Для битвы, что ожила сейчас под
сомкнутыми веками Мартина, место безопасное. Он видел две оравы, воинственные и
угрюмые, они держались поодаль друг от друга, каждая – позади своего бойца;
видел, как сам он и Чурбан раздеваются. В стороне выставлены дозоры, их задача
– не спускать глаз с освещенных концов моста. Один из любителей пошуметь держал
куртку Мартина, рубашку, матросскую бескозырку, если вмешается полиция, он
мигом кинется с ними подальше от греха. И вот Мартин выходит на середину и в
упор смотрит на Чурбана, предостерегающе подняв руку, и снова он слышит слова,
что сказал тогда:
– Никаких рукопожатий. Понял? Будем биться и боле
ничего. И чтоб пощады не просить. Счеты у нас старые, деремся до победного. Кто
кого уложит на обе лопатки.
Мартин приметил, Чурбан было заколебался, но перед двумя
сворами взыграла прежняя рисковая гордость.
– Да чего там!‑ответил он. – Еще разговоры
разговаривать! До конца так до конца.
И они кинулись друг на дружку, будто молодые бычки, во всем
великолепии юности, вооруженные лишь кулаками, да ненавистью, да жаждой
исколошматить, изувечить, изничтожить. Все, чего достиг человек за время
тысячелетнего мучительного восхождения, было забыто. От всего этого остался
лишь электрический фонарь, веха на великом пути к вершинам. Мартин и Чурбан
были два дикаря из каменного века, те самые, что укрывались в пещерах и на
деревьях. Все глубже и глубже опускались они, в пучину, на илистое дно, где
зарождались примитивные начатки жизни, и подобно крупицам звездной пыли в
небесах и атомам во всем сущем, движимые слепой стихийной силой, притягивались,
отталкивались и снова притягивались, опять и опять, без конца.
– Господи! Ну и скоты, свирепое зверье!‑пробормотал
Мартин, вновь наблюдая за той дракой. При его редкостной силе воображения, он
словно смотрел в кинетоскоп. Он был сразу и зритель и участник. Все впитанное
за долгие месяцы приобщения к культуре и самоусовершенствования содрогалось от
этого зрелища; а потом настоящее стерлось в сознании, призраки прошлого
завладели им, и снова он‑прежний Мартин Иден, он только что возвратился из
плавания и дерется с Чурбаном на мосту Восьмой улицы. Он терпел боль, и
надрывался, и потел, и истекал кровью, и бурно ликовал, когда ободранные кулаки
попадали в цель.
Два бешеных смерча, заряженные ненавистью, в неистовом
круговороте сшибались друг с другом. Время шло, и две враждебные оравы
притихли. Никогда еще не видели они такого накала ярости и ужаснулись. Эти двое
оказались еще более жестокими, чем они сами. Безоглядность первых минут, пыл
силы и молодости сменились осторожной расчетливостью. Ни тому, ни другому не
удавалось взять верх. «Верная ничья»– донеслось до Мартина. Потом он сделал
ложный выпад вправо, влево, получил ответный яростный удар и почувствовал –
рассечена скула. Голыми руками такого не сделаешь. Рана была страшная, среди
зрителей поднялся ропот изумления. Мартин залился кровью. Но не выдал
подозрения. Он повел себя невероятно осторожно, – он хорошо знал, на какое
коварство и гнусную низость способны его собратья. Он помедлил, присматриваясь,
потом будто в бешенстве кинулся, но на полдороге остановился – увидел наконец,
как блеснул металл.
–Подыми руку – заорал он. – Свинчаткой меня вдарил.
Обе своры, злобно рыча, рванулись вперед. Еще миг, и
начнется общая потасовка, и он не сможет отомстить. Он осатанел.
– Все прочь! – хрипло завопил он. – Поняли?
Эй вы, поняли?
И все шарахнулись назад. Сами звери, в нем они увидели
сверхзверя и, укрощенные, подчинились.
– Никто не суйся, уж я с ним сочтусь! Гони свинчатку!
Чурбан, отрезвев и малость струхнув, отдал гнусное оружие.
– Это ты ему передал, ты, Рыжий, за спинами
пролез, – продолжал Мартин и швырнул свинчатку в воду. – Я видал
– рядом отираешься, еще подумал, какого черта. Опять
чего затеешь, забью насмерть. Понял?
И опять они дрались, в полнейшем изнеможении, в изнеможении
безмерном, невообразимом, и наконец толпа зверей, насытясь видом крови, в
страхе от происходящего, забыла о распрях и стала упрашивать их разойтись.
Видно было, Чурбан вот‑вот рухнет и испустит дух или испустит дух стоя;
изуродованный кулаками Мартина и уже на себя непохожий, он дрогнул,
заколебался; но Мартин ринулся на него и осатанело бил, бил опять и опять.
Казалось, прошла вечность. Чурбан слабел на глазах, а удары
с обеих сторон все сыпались, и тут раздался хруст и правая рука Мартина
бессильно повисла. Перелом. Все слышали хруст и поняли, что он означает; понял,
и Чурбан, как тигр кинулся на искалеченного врага и обрушил на него град
ударов. Команда Мартина рванулась вперед, готовая вступиться. Оглушенный
беспрерывно сыплющимися на него ударами, Мартин невольно всхлипывал и стонал в
безмерном отчаянии, в муке, но остановил защитников бешеной неистовой бранью.
Он бил одной левой, и, пока бил, упряма, почт в
полубеспамятстве, до него донесся словно издалека приглушенный опасливый ропот
обеих команд и чей‑то дрожащий голос:
–Это ж, ребята, не драка. Убийство, надо их растащить.
Но растаскивать не стали, и Мартин был рад и устало,
безостановочно бил левой, лупил кровавое месиво, что маячило напротив, –
не лицо, нет, что‑то мерзкое, страшное, качалось перед его затуманенными
глазами и невнятно бормотало, безымянное, невыразимо гнусное, и упорно не
исчезало. И он лупил, лупил, все медленнее и медленнее, и последние остатки
жизненной силы вытекали из него, и проходили века, вечность, огромные
промежутки времени, и наконец он будто сквозь туман заметил, как это безымянное
оседает, медленно оседает на грубый дощатый настил моста. И вот Мартин стоит
над ним и, качаясь на подламывающихся дрожащих ногах и в поисках опоры цепляясь
за воздух, говорит чужим, неузнаваемым голосом:
– Ну что, хватит с тебя? Слышь, хватит с тебя? Он
повторял все одно и то же, опять и опять– требовательно, умоляюще, угрожающе, а
потом почувствовал: ребята из его команды держат его, похлопывают по спине;
пытаются натянуть на него куртку. И тогда на него нахлынула тьма, и он канул в
небытие.
Жестяной будильник на столе неутомимо тикал, подсчитывая секунды,
но Мартин Иден по‑прежнему сидел, уронив голову на руки, и не слышал счета
секунд. Ничего уже он не слышал. Ни о чем не думал. С такой полнотой пережил он
тогдашнее сызнова, что, как и тогда, на мосту Восьмой улицы, потерял сознанье.
Долгую минуту, длились тьма и беспамятство. Потом, будто восстав из мертвых, он
вскочил, глаза загорелись, по лицу катился пот.
– Я одолел тебя, Чурбан!‑закричал он. –
Одиннадцать лет понадобилось, но я тебя одолел!
Колени дрожали, такая накатила на него слабость, он, спотыкаясь,
шагнул к кровати, опустился на край. Он был еще в тисках прошлого.
Недоумевающе, тревожно огляделся по сторонам, пытаясь понять, где он, и наконец
ему попалась на глаза кипа рукописей в углу. И колеса памяти закрутились,
перенесли его на четыре года вперед, и он вновь осознал настоящее, книги,
которые вошли в его жизнь, мир, открывшийся ему с их страниц, свои мечты и
честолюбивые замыслы, свою любовь к бледному, воздушному созданию, девушке
нежной и укрытой от жизненных волнений, которая умерла бы от ужаса, окажись она
хоть на миг, свидетельницей того, что он сейчас пережил, – той мерзости
жизни, из которой он выбрался.
Он встал, поглядел на себя в зеркало.
– Итак, ты поднимаешься из грязи, Мартин Иден, –
торжественно произнес он. – Протираешь глаза, чтобы увидеть сияние, и
устремляешься к звездам, подобно всему живому до тебя, и даешь умереть в тебе
обезьяне и тигру, и готов отвоевать бесценнейшее наследие, какие бы
могущественные силы им ни владели.
Он пристальней всмотрелся в свое отражение и рассмеялся.
– Малость истерики и мелодрамы, а? – осведомился
он. – Ну да ничего. Ты одолел Чурбана, одолеешь и редакторов, хоть бы
пришлось потратить дважды по одиннадцать лет. Не можешь ты остановиться на
полпути. Надо идти дальше. Сражаться до конца, и никаких гвоздей.
|


