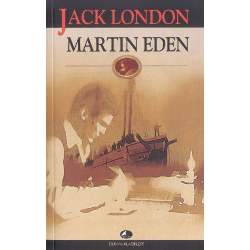
 Увеличить Увеличить |
Глава 30
В ясный осенний день, в такой же день бабьего лета, как тот,
когда год назад они открылись в своей любви, Мартин читал Руфи свои «Стихи о
любви». В этот предвечерний час они, как часто бывало, расположились на своем
любимом бугорке среди холмов. Руфь порой перебивала Мартина восторженными
восклицаниями, и теперь, отложив последнюю страницу рукописи к остальным,
Мартин ждал ее суда.
Руфь медлила и начала не вдруг, запинаясь, не решаясь облечь
в слова суровый приговор.
– По‑моему, это прекрасные стихи, да, прекрасные, но
ведь денег они не принесут, ты согласен? Понимаешь, что я хочу сказать? –
продолжала она почти умоляюще. – То, что ты пишешь, не подходит для
издателей. Что‑то, уж не знаю что, не позволяет тебе заработать этим на жизнь,
может быть, тут дело в спросе. Только, пожалуйста, милый, пойми меня правильно.
Я польщена, и горда, и все такое, что стихи эти посвящены мне, иначе какая бы я
была женщина. Но они не помогают нам пожениться. Неужели ты не понимаешь,
Мартин? Не считай меня корыстной. Любовь, наше будущее– вот что меня тревожит.
С тех пор, как мы узнали, что любим друг друга, прошел целый год, а день
свадьбы не стал ближе. Не сочти нескромностью, что я так прямо говорю о нашем
браке, но ведь на карту поставлена моя любовь, вся моя жизнь. Почему ты не
попытаешься устроиться в газету, если уж тебе так необходимо писать? Почему не
стать репортером… хотя бы на время?
– Это испортит мой стиль, – негромко, устало
возразил Мартин. – Ты не представляешь, как я отрабатывал стиль.
– Ну, а эти рассказики для газет, – заспорила
Руфь, – ты сам называешь их поделками. Ты столько их написал. Они разве не
портят тебе стиль?
238
– Нет, то совсем другое дело. Рассказики я вымучивал,
выжимал из себя после того, как весь день оттачивал стиль. А работа репортера –
это сплошное ремесленничество с утра до вечера, там вся жизнь уходит на
поделки. И вся жизнь– какой‑то водоворот, только и знаешь настоящую минуту, нет
ни прошлого, ни будущего, и уж конечно, недосуг подумать о стиле, разве что о
репортерском, но это уже никакая не литература. Стать репортером сейчас, когда
у меня только‑только складывается, кристаллизуется свой стиль, для меня как для
писателя – самоубийство. Ведь каждый такой рассказик, каждое слово каждого
рассказика было насилием над собой, писалось вопреки уважению к себе, вопреки
моему уважению к красоте. Поверь, от этого занятия меня тошнит. Грех этим
заниматься. И втайне я был доволен, когда их не покупали, хоть и приходилось
отдавать в заклад костюм. Но какая была радость писать «Стихи о любви»! Высочайшая
творческая радость! Она– награда за все.
Мартин не знал, что Руфь не понимает творческой радости.
Слова эти она употребляла, от нее‑то он и услышал их впервые. Она читала об
этом, изучала это в университете, когда готовилась стать бакалавром изящных искусств,
но сама неспособна была ни на самостоятельную мысль, ни на творческое усилие, и
все, что будто бы говорило о ее высокой культуре, она повторяла с чужих слов,
все было получено из третьих рук.
– А может быть, редактор не без основания правил
«Голоса моря»? – спросила Руфь. – Не забудь, редактор должен был
доказать, что разбирается в литературе, иначе он бы не стал редактором.
– Это лишь подтверждает, как. живуче все
общепринятое, – возразил Мартин, не сдержав давнего ожесточения против
редакторской братии. – То, что существует, не только правильно, но и
лучшее из всего возможного. Раз оно существует, значит, хорошо, полезно, имеет
право существовать, – и, заметь, как верит рядовой человек, существовать
не только в нынешних условиях, но и в любых условиях. Верит он в такую чепуху,
разумеется, из‑за своего невежества, а невежество его рождено всего‑навсего
убийственной формой мышления, описанной Вейнингером. Эти при– 236 верженцы
общепринятого воображают, будто мыслят, и. сами лишенные способности мыслить,
распоряжаются жизнью тех немногих, кто и вправду мыслит.
Мартин замолчал, до него вдруг дошло, что Руфи не понять его
речей.
– Знать не знаю, кто такой этот Вейнингер, –
отрезала Руфь. – И все эти рассуждения носят слишком общий характер, я
просто не улавливаю твоей логики. Я говорила о способности редактора
разобраться…
– Да откуда она, эта способность, – прервал
Мартин. – Девяносто девять процентов редакторов обыкновенные неудачники.
Несостоявшиеся писатели. Не думай, будто они предпочли нудную необходимость
торчать за редакторским столом, зависеть от тиража и коммерческого директора
радости творить. Они пробовали писать– и не сумели. И получается дьявольская
нелепость. Каждую дверь в литературу охраняют сторожевые псы – несостоявшиеся
писатели. Редакторы, помощники редакторов, младшие редакторы, – в
большинстве, и те, кому журналы и издатели поручают читать рукописи, тоже,
почти все– люди, которые хотели писать и не сумели. И однако они, меньше всех
пригодные для этой роли, именно они решают, что следует и что не следует
печатать, – именно они, доказавшие, насколько они заурядны и бездарны,
судят незаурядность и талант. А вслед за ними идут газетные и журнальные
критики, опять же почти сплошь несостоявшиеся писатели. Не уверяй меня, будто
они не мечтали творить, не пытались писать стихи или прозу, пытались, да не
вышло. Недаром рядовая рецензия тошнотворна, как рыбий жир. Ты же знаешь мое
мнение о рецензентах и так называемых критиках. Правда, есть и замечательные
критики, но они редки, словно кометы в небе. Если я провалюсь как писатель, в
самый раз заделаться редактором. Что‑что, а на хлеб с маслом да еще и джемом
заработаю.
Руфь мигом приметила противоречие в словах возлюбленного и
обратила это против него.
– Но, Мартин, если так, если все двери на запоре, как
ты сейчас убедительно доказал, откуда же взялись знаменитые писатели?
– Они достигли невозможного, – ответил он. –
Они работали так блистательно, с таким огнем, что 240 испепелили всех, кто
стоял на их пути. Успех каждого из них – чудо, выигрыш там, где ставка тысяча
против одного. Они добились успеха потому, что они закаленные в битвах гиганты
Карлейля, против которых никому не устоять. Вот и я, я должен достичь
невозможного.
– А если не удастся? Ты же должен подумать и обо мне,
Мартин.
– Не удастся? – он посмотрел на нее так, словно
услышал такое, о чем и помыслить невозможно. Потом в глазах блеснуло
понимание. – Если не удастся, я стану редактором, а ты женой редактора.
В ответ на шуточку Руфь нахмурилась – и это вышло у нее так
прелестно, так мило, что Мартин обнял ее и поцелуями согнал тень с ее лица.
– Ну, не надо, оставь, – усилием воли она не
поддалась этой пленяющей ее силе. – Я говорила с папой и с мамой. В первый
раз в жизни я так взбунтовалась. Потребовала, чтобы меня выслушали. Я оказалась
очень непослушной дочерью. Ты ведь знаешь, они предубеждены против тебя, но я
снова и снова твердила, что люблю тебя и никогда не разлюблю, и наконец папа
сдался и сказал, если ты хочешь, прямо сейчас поступай к нему в контору. И сам
предложил с первого же дня платить тебе прилично, чтобы мы могли пожениться и
купить где‑нибудь домик. По‑моему, это очень благородно с его стороны… ведь
правда?
С тупой болью отчаяния в сердце Мартин машинально потянулся
за табаком и бумагой (забыл, что больше не носит их с собой), хотел свернуть
цигарку, пробормотал что‑то невнятное, а Руфь продолжала:
– Откровенно говоря, – ты не обижайся, я только
хочу, чтобы ты ясно понял, как он к тебе относится, – ему не нравятся твои
радикальные взгляды, и он считает, что ты ленив. Я‑то знаю, ты совсем не
ленивый. Я знаю,ты очень усердно работаешь.
«Даже она этого не знает», – подумалось Мартину.
– Ну, а как насчет моих взглядов? – спросил
он. – По‑твоему, они такие уж радикальные?
Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.
– По‑моему… ну… они меня сильно смущают, –
ответила Руфь.
Все стало ясно, и Мартин был подавлен, жизнь вдруг стала
беспросветной, он даже забыл о предло– 341 жении Руфи, об этой ее попытке
уговорить его пойти служить. А она, не решаясь больше настаивать, готова была ждать
ответа, пока не понадобится снова спросить о том же.
Долго ждать не пришлось. Мартину тоже было о чем ее
спросить. Он хотел понять, верит ли она в него по‑настоящему, и не прошло и
недели, как оба получили ответ. Мартин ускорил события– прочел Руфи свой «Позор
солнца».
– Почему бы тебе не стать репортером? – спросила
она, когда он дочитал до конца. – Ты так любишь писать, и я уверена, ты бы
добился успеха. Был бы видным журналистом, человеком с именем. Есть же
замечательные специальные корреспонденты. Они прекрасно зарабатывают и
разъезжают по всему свету. Куда их только не посылают– и в сердце Африки, как
Стенли, и брать интервью у папы римского, и в Тибет, в места, где не бывал ни
один исследователь.
– Значит, мой этюд тебе не понравился? – вместо
ответа спросил Мартин. – По‑твоему, я могу показать себя в журналистике,
но не в литературе?
– Нет‑нет, конечно, понравился. Очень хорошо написано.
Но боюсь, для читателя это слишком сложно. Для меня, во всяком случае, сложно.
Звучит прекрасно, но непонятно. Твой научный жаргон до меня не доходит. Ты
всегда слишком увлекаешься, милый, и, наверно, разобрался в таких вещах, в
которых и я и другие разобраться неспособны.
– Вероятно, тебе мешает философская
терминология, – только и мог сказать Мартин.
Он прочитал ей сейчас самое зрелое из всего, что когда‑либо
продумал и высказал на бумаге, он еще не остыл от волнения, и приговор Руфи
ошеломил его.
– Как бы плохо это ни было написано, неужели тебе
совсем не интересно? – допытывался он. – Неужели не интересна сама
мысль?
Руфь покачала головой.
– Нет, это так непохоже на все, что я читала раньше. Я
читаю Метерлинка и понимаю его…
– Мистицизм его понимаешь? – не удержался Мартин.
– Да, а вот твоя статья, ты ведь как будто нападаешь на
него, этого я не понимаю. Конечно, что касается оригинальности…
242 Мартин нетерпеливо махнул рукой, но смолчал. А потом
вдруг спохватился, что Руфь все говорит, говорит уже давно.
– В конце концов, писательство было твоей
забавой, – говорила она. – Право же, ты забавлялся достаточно долго.
Пора принять жизнь всерьез – нашу с тобой жизнь, Мартин. До сих пор ты жил
только для себя.
– Ты хочешь, чтобы я пошел служить? – спросил он.
– Да. Папа предложил тебе…
– Это я понял, – перебил Мартин, – но я хочу
знать, ты что, больше в меня не веришь?
Руфь молча сжала его руку, глаза ее затуманились.
– В твое писательство, милый, – призналась она
чуть слышно.
– Ты читала множество моих вещей, – резко
продолжал он. – Что ты о них думаешь? Они безнадежно плохи? А если
сравнить с тем, что пишут другие?
– Но других печатают, а твое… твое нет.
– Это не ответ. По‑твоему, литература вовсе не мое
призвание?
– Тогда я отвечу. – Руфь собралась с духом. –
Я не думаю, что ты создан писателем. Прости меня, милый. Ты заставил меня
сказать это прямо. И ты ведь знаешь, в литературе я разбираюсь лучше тебя.
– Да, ты бакалавр изящных искусств, – раздумчиво
сказал Мартин, – должна бы разбираться… Но я еще не все сказал, –
продолжал он после тягостного для обоих молчания. – Я знаю, на что
способен. Никто не знает этого лучше меня. Я добьюсь успеха. Меня не
остановишь. Мысли так и кипят во мне, ждут воплощения в стихах, в прозе, в
статьях. Нет, я не прошу, чтобы ты поверила в это. Не прошу верить ни в меня,
ни во все то, что я пишу. Об одном прошу: люби меня и верь в любовь.
Год назад я просил тебя дать мне два года. Один мне еще
остался. И я верю, клянусь тебе, еще до того, как он кончится, я добьюсь
успеха. Помнишь, ты когда‑то сказала: чтобы стать писателем, мне надо пройти
через ученичество. Что ж, я и прошел. Я гнал вовсю, я уложился в недолгий срок.
В конце пути ждала меня ты, и я не давал себе поблажки. Я забыл, что значит
спокойно уснуть, понимаешь?
243 Поспать всласть и проснуться, просто оттого что
выспался, – как давно я этого не знаю. Теперь меня поднимает будильник. Я
завожу будильник на тот или иной час, смотря по тому, раньше или позже лег, и
это последние мои осмысленные движения– завожу будильник, гашу лампу и
проваливаюсь в сон.
Если за чтением я начинаю клевать носом, я откладываю
серьезную книгу и берусь за более легкую. А если начинаю засыпать и над ней,
бью кулаком по голове– гоню сон. Где‑то я читал про человека, который боялся
уснуть. Да, у Киплинга. Человек этот приспособил шпору– когда засыпал, в
обмякшее тело впивалось стальное острие. Ну, и я сделал то же самое. Я смотрю
на часы и решаю не убирать свою шпору до полуночи, или до часу, или до двух. И
если засыпаю раньше времени, она меня пришпоривает. Месяцами я спал со шпорой.
Я дошел до того, что пять с половиной часов сна стали мне казаться непозволительней
роскошью. Теперь я сплю четыре часа. Я изголодался по сну. Бывает, от недосыпа
я брежу наяву, бывает, меня соблазняет смерть– ее покой и сон, бывает, меня
преследуют строки Лонгфелло:
Молчаливо глубокое море, Все в нем спит без тревоги и горя.
Только шаг – в тишину, в глубину – И ко дну– и навеки усну.
Это, разумеется, чепуха. Просто сдают нервы, переутомлен
мозг. Но ведь главное– ради чего все это? Ради тебя. Чтобы сократить срок
ученичества. Чтобы поторопить Успех. Теперь ученичество окончено. Я знаю, как
снаряжен. Даю голову на отсечение, каждый месяц я узнаю больше, чем обычный
студент колледжа за год. Я это знаю, поверь. Я не стал бы тебе все это
рассказывать, но мне позарез необходимо, чтобы ты меня поняла. Это не
похвальба. Мое мерило – книги. Сегодня твои братья – дикари, невежды по
сравнению со мной, столько знаний я выжал из книг, пока они спали. Было время,
я хотел прославиться. Сейчас слава меня мало заботит. Мне нужна ты, по тебе я
изголодался больше, чем по еде, по одежде, по признанию. Есть у меня мечта:
положить голову тебе на грудь и спать долго, долго… года не пройдет, и мечта
моя сбудется.
244 Исходящая от Мартина сила волна за волной обдавала Руфь,
и как раз тогда, когда он был всего упорней, неподатливей, ее всего неодолимей
влекло к нему. Неукротимая заразительная энергия трепетала сейчас страстью в
его голосе, сверкала в глазах всей мощью ума и бьющей через край жизни. В этот
миг на один только миг уверенность Руфи дала трещину, и в просвет она увидела
подлинного Мартина Идена, великолепного, непобедимого; и как бывают минуты
слабости у дрессировщика, так и Руфь на миг усомнилась было, сумеет ли
приручить этого неистово самобытного человека. –
– И еще одно, – стремительно продолжал Мартин– Ты
меня любишь. Но почему? Как раз за то, что, есть во мне и что заставляет меня
писать. Любишь, потому что я в чем‑то не такой, как мужчины, которых ты знала и
могла бы полюбить. Я не создан для конторы или бухгалтерии, для торгашеского
крохоборства и всяческого крючкотворства. Заставь меня заняться всем этим–
стать таким, как все эти люди, выполнять ту же работу, дышать тем же воздухом,
исповедовать те же взгляды, – и ты уничтожишь разницу между нами,
уничтожишь меня, уничтожишь именно то во мне, что любишь. Я жив тем, что жажду
писать. Будь я заурядный болван, я бы не захотел писать, а ты бы не захотела
меня в мужья.
– Но ты забываешь, – прервала Руфь, быстрый ум ее
мгновенно уловил нехитрую параллель: – Всегда были чудаки‑изобретатели,
одержимые несбыточными мечтами, пытались, например, изобрести вечный двигатель,
а их семьи из‑за этого голодали. Несомненно, жены любили их и страдали вместе с
ними и за них, но не за сумасбродное увлечение каким‑нибудь вечным двигателем,
а вопреки ему.
– Верно, – был ответ. – Но не все
изобретатели были чудаками, иные голодали, стараясь изобрести вещи полезные и
осуществимые, и, как известно, иногда им это удавалось. Право же, я не
стремлюсь к невозможному…
– Ты сам называл это «достичь невозможного», –
вставила Руфь.
– Это же не буквально. Я стремлюсь к тому, что
удавалось другим до меня, – писать и зарабатывать этим на хлеб.
245 Руфь промолчала, и это подхлестнуло Мартина.
– Значит, по‑твоему, моя цель такая же несбыточная
мечта, как вечный двигатель? – спросил он.
Руфь сжала его руку– ласково, с нежностью матери, жалеющей
обиженного ребенка, и для Мартина это было внятным ответом. А для Руфи он в ту
минуту и правда был лишь обиженный ребенок, одержимый, стремящийся к
невозможному.
К концу разговора она опять напомнила, как настроены против
него ее отец и мать.
– Но ты меня любишь? – спросил Мартин.
– Да! Да! – воскликнула Руфь.
– А я люблю тебя, не их, и пускай делают что хотят, мне
все равно. – В голосе Мартина звучало торжество. – Я верю в твою
любовь, и не страшна мне их враждебность. В этом мире все может сбиться с
дороги, только не любовь. Любовь не станет на ложный путь, разве что она
малодушный недокормыш.
|


