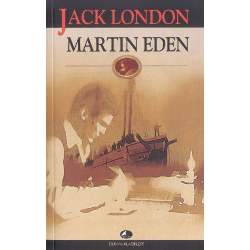
 Увеличить Увеличить |
Глава 35
Бриссенден не объяснил, почему так долго пропадал, а Мартин
не стал допытываться. Сквозь пар, поднимающийся над пуншем, отрадно было видеть
бледное, изнуренное лицо друга.
– Я тоже не бездельничал, – заявил Бриссенден.
выслушав отчет Мартина о том, что он успел написать.
Он вытащил из внутреннего кармана рукопись и протянул
Мартину, тот прочитал заглавие и удивленно посмотрел на Бриссендена.
– Да, именно, – засмеялся Бриссенден. –
Неплохое название, а? «Эфемерида»… то самое слово. Я от вас его услышал, вы так
назвали человека, он у вас всегда несгибаемый, одухотворенная материя,
последний из эфемерид, гордый своим существованием в краткий миг, отведенный
ему под солнцем. Это гвоздем засело у меня в голове – и пришлось написать,
чтобы от этого избавиться. Скажите, каково это на ваш взгляд.
Мартин стал читать, и поначалу вспыхнул, а потом побледнел.
Это было само совершенство. Форма одержала победу над содержанием, если это
можно назвать победой – все содержание, до последнего атома, было выражено с
таким мастерством, что у Мартина от восторга закружилась голова, на глаза
навернулись жаркие слезы, по спине пошел холодок. То была большая поэма, в
шестьсот или семьсот строк, – причудливая, поразительная, загадочная.
Необычайные, невероятные стихи, однако вот они, небрежно написанные черным по
белому. Они – о человеке и его напряженнейших духовных исканиях, о его мысли,
проникающей в бездны космоса в поисках отдаленнейших солнц и спектров радуги.
То был безумный разгул воображения умирающего, чье дыхание прерывается всхлипом
и слабеющее сердце неистово трепещет перед тем, как остановиться навсегда. В
этом величавом ритме с громом восставали друг на друга холодные светила,
проносились вихри звездной пыли, сталкивались угасшие солнца, и вспыхивали в
черной пустоте новые галактики; и тонкой серебряной нитью пронизывал все это
немолчный, слабый, чуть слышный голос человеческий, жалобное лепетанье средь
воплей планет и грохота миров.
– Такого в литературе еще не было, – сказал
Мартин, когда к нему наконец вернулся дар речи. – Потрясающие стихи!..
потрясающие! Мне просто в голову ударило. Я как пьяный. Этот великий и тщетный
вопрос… Я ни о чем другом думать не могу. Этот вопрошающий вечный голое
человеческий, неустанная тихая жалоба все заучит в ушах. Он словно комариный
похоронный марш среди трубного зова слонов ,и львиного рыка. Голос едва слышен,
а жажда его неутолима. Я говорю глупо, знаю, но поэма чудо, вот что. Ну как вам
это удается? Как?
Мартин перевел дух и снова принялся восхвалять поэму.
– Я больше не стану писать. Я бездарь. Вы показали мне,
что такое работа настоящего мастера. Гений! Это не просто гениально. Это больше,
чем гениально. Это обезумевшая истина. Это настоящее, дружище, в каждой строчке
настоящее. Хотел бы я знать, понимаете ли вы это, вы, философ. Сама наука не
может вас опровергнуть. Это прозрение, выкованное из черного металла космоса и
обращенное в великолепные звучные ритмы. Вот, больше я не скажу ни слова! Я
потрясен, раздавлен. Хотя нет, еще одно. Позвольте, я найду для нее издателя.
Бриссенден усмехнулся,
– Нет в христианском мире журнала, который посмел бы ее
напечатать… сами понимаете.
– Ничего такого я не понимаю. Я понимаю другое: любой
журнал в христианском мире мигом за нее ухватится. Такое на дороге не валяется.
Это не просто поэма года. Это поэма века.
– Хотел бы я поймать вас на слове.
– Не будьте таким уж пессимистом, – предостерег
его Мартин. – Редакторы журналов не сплошь болваны. Я‑то знаю. Давайте
держать пари. Спорю на что угодно – вашу «Эфемериду» примет если не первый же,
так второй журнал.
– Ухватился бы за ваше предложение, только одно меня
удерживает, – сказал Бриссенден и, помолчав, продолжал: – Вещь хороша…
лучше всего, что я написал. Я‑то знаю. Это моя лебединая песнь. Я чертовски ею
горжусь. Боготворю ее. Это получше виски. Великолепная вещь, совершенство, о
такой я мечтал, когда был молод и простодушен, полон прелестных иллюзий и
чистейших идеалов. И вот теперь, на пороге смерти я ее написал. И не хочу я,
чтобы ею завладело, осквернило стадо свиней. Нет, я не иду на пари. «Эфемерида»
моя. Я создал ее и поделился с вами.
– А как же другие? – возразил Мартин. –
Назначение красоты – дарить человечеству радость.
– Это моя красота.
– Не будьте эгоистом.
– Я не эгоист, – сказал Бриссенден и сдержанно
усмехнулся, как всякий раз, когда он бывал доволен тем, что готово было слететь
с его тонких губ. – Я щедр и самоотвержен, как изголодавшийся боров.
Тщетно пытался Мартин поколебать его решение.. Твердил, что
его ненависть к журналам – сумасбродство, фанатизм, он в тысячу раз достойнее
презрения, чем юнец, который сжег храм Дианы в Эфесе. Под градом обвинений
Бриссенден преспокойно прихлебывал пунш и соглашался: да, все так, все
справедливо, за исключением того, что касается журнальных редакторов. Его
ненависть к ним не знала границ, и нападал он на них еще яростнее Мартина.
– Пожалуйста, перепечатайте дли меня
«Эфемериду», – сказал он. – Вы это сделаете в тысячу раз лучше любой
машинистки. А теперь я хочу вам кое‑что посоветовать. – Он вытащил из
кармана пальто пухлую рукопись. – Вот ваш «Позор солнца». Я его прочел, и
не один раз, а дважды, трижды… Это высшая похвала, на какую я способен. После
ваших слов об «Эфемериде» мне следует молчать. Но одно я вам скажу: когда
«Позор солнца» напечатают, то‑то будет шуму. Разгорятся споры, которые принесут
вам тысячи долларов, так как сделают вас знаменитым.
Мартин рассмеялся.
– Сейчас вы посоветуете отправить «Позор» в журналы.
– Ни в коем случае… разумеется, если вы хотите, чтобы
его напечатали. Предложите рукопись первоклассным издательствам. Найдется
рецензент, который будет достаточно безумен или достаточно пьян, в даст о ней
благоприятный отзыв. Вы много читали. Суть прочитанного переплавилась в вашем
мозгу и вылилась в «Позор солнца», настанет день, когда Мартин Иден
прославится, и не последнюю роль в этом сыграет «Позор Солнца». Итак, найдите
для нее издателя… чем скорее, тем лучше.
Бриссенден засиделся допоздна и, уже на ступеньке трамвая,
вдруг обернулся к Мартину и сунул ему в руку скомканную бумажку.
– Вот, возьмите, – сказал он. – Я выл сегодня
на скачках, и мне сказали, какая лошадь придет первой. Зазвенел звонок, трамвай
тронулся, оставив. Мартина в недоумении, что за измятая, засаленная бумажка
зажата у него в руке. Вернувшись к себе, он разгладил, ее и увидел, что это
стодолларовый билет.
Мартин не постеснялся им воспользоваться. Он звал, у друга
всегда полно денег, и знал также, был глубоко уверен, что дождется успеха, и
сможет вернуть долг. Наутро он заплатил по всем счетам, дал Марии за комнату за
три месяца вперед и выкупил у ростовщика все свои вещи. Потом выбрал свадебный
подарок Мэриан и рождественские подарки поскромней для Руфи и Гертруды. И
наконец, на оставшиеся деньги повез в Окленд все семейство Сильва. С опозданием
на год, он все‑таки исполнил свое обещание, и все от мала до велика, включая
Марию, получили по паре обуви. А в придачу свистки, куклы, всевозможные
игрушки, пакеты и фунтики со сластями и орехами, так что они едва могли все это
удержать.
Ведя за собой эту красочную процессию, он вместе с Марией
зашел в кондитерскую в поискал самых больших леденцов на палочке и неожиданно
увидел там Руфь с матерью. Миссис Морз оторопела. Даже Руфь была задета, ибо
приличия кое‑что значили и для нее, а ее возлюбленный бок о бок с Марией, во
главе этой команды португальских оборвышей, – зрелище не из приятных. Но
сильней задело ее другое, она сочла, что Мартину недостает гордости и чувства
собственного достоинства. А еще того хуже– случай этот показал ей, что никогда
Мартину не подняться над средой, из которой он вышел. Бедняк, рабочий – само
происхождение Мартина уже клеймо, но так бесстыдно выставлять его напоказ перед
всем миром, перед ее миром – это уже слишком. Хотя ее помолвка держалась в
тайне, об их давних, постоянных встречах не могли не судачить; а в кондитерской
оказалось несколько ее знакомых, и они украдкой поглядывали на ее поклонника и
его свиту. Руфь не обладала душевной широтой Мартина и не способна была стать
выше своего окружения. Случившееся уязвило ее, чувствительная душа ее
содрогалась от стыда. И приехав к ней позднее в тот же день с подарком в
нагрудном кармане, Мартин решил отдать его как‑нибудь в другой раз. Плачущая
Руфь, плачущая горько, сердитыми слезами, это было для него откровение. Раз она
так страдает, значит, он грубое животное, хотя в чем и как провинился:– хоть
убейте, непонятно. Ему и в голову, не приходило стыдиться своих знакомств, и в
том, что ради Рождества он угостил семейство Сильва, он не усматривал ни
малейшего неуважения к Руфи. С другой стороны, когда Руфь объяснила ему свою
точку зрения, он понял ее, что ж, видно, это одна из женских слабостей, которым
подвержены все женщины, даже самые лучшие.
|


