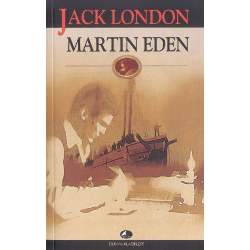
 Увеличить Увеличить |
Глава 24
Проходили недели. Деньги у Мартина почти иссякли, а чеков от
издателей так и не было. Все важнейшие рукописи вернулись назад и отправлены
вновь, и участь поделок ничуть не лучше. Он уже не стряпал разнообразные блюда.
У него только и оставалось что неполный мешок рису и немного сухих абрикосов, и
пять дней подряд он трижды в день готовил один лишь рис да абрикосы. Потом
началась жизнь в кредит. Бакалейщик‑португалец, которому он до сих пор платил
наличными, перестал отпускать провизию, когда долг Мартина достиг огромной
суммы в три доллара восемьдесят пять центов.
– Видишь, какая штука, – сказал бакалейщик, ( ты
не найти работа, плакать моя деньги.
И Мартину нечего было ответить. Ничего тут не объяснишь. Так
дело не делается– давать в кредит здоровущему рабочему парню, которому лень
работать.
– Ты найти работа, я опять давать еда. – заверил
Мартина бакалейщик. – Нет работа, нет еда. Дело есть дело. – И потом,
чтобы показать, что суть именно в деловой предусмотрительности, а против
Мартина он ничего не имеет, предложил:– Ты выпить стаканчик, я угощать, ведь мы
оставаться друзья.
И Мартин, запросто выпил в знак, что они остаются друзьями,
и лег спать без ужина.
В зеленной, где Мартин покупал овощи, лавочник‑американец
вел дело куда менее строго и отказал в кредите, когда Мартин ему задолжал целых
пять долларов. Булочник остановился на двух долларах, а мясник на четырех.
Мартин подсчитал свои долги, и оказалось, у него и кредиту всего‑то в общей
сложности на четырнадцать долларов восемьдесят пять центов. Пора уже платить за
пользование машинкой, но он рассчитал, что два месяца с этим можно подождать,
это составит еще восемь долларов. И уж тогда весь возможный кредит будет
исчерпан.
В зеленной лавке под конец куплен был мешок картошки, и
неделю Мартин питался одной картошкой, трижды в день картошка и больше ничего.
Случайный обед у Руфи помогал еще продержаться, хотя было истинным мученьем
отказываться от всяческой снеди, когда изобилие разносолов на столе чуть не
сводило с ума. Преодолевая стыд, он нет‑нет да и наведывался к сестре в часы
обеда и там ел, сколько хватало смелости, во всяком случае больше, чем позволял
себе за столом у Морзов.
День за днем он работал, и день за днем почтальон приносил
отвергнутые рукописи. Денег на марки не осталось, и рукописи эти громоздились
под столом. Как‑то у него сорок часов не было во рту ни крошки. Он не мог
надеяться перекусить у Руфи, она на две недели уехала погостить в Сан‑Рафаэль,
а пойти к сестре не давал стыд. В довершение всех бед почтальон, разнося
дневную почту, выложил Мартину сразу пять отвергнутых рукописей. Тогда‑то
Мартин и отправился в Окленд, надев пальто, а вернулся без него, зато в кармане
позвякивали пять долларов. Он заплатил по доллару каждому из лавочников и у
себя в кухне поджарил мясо с луком, сварил кофе и в большой кастрюле потушил
чернослив. Пообедав, он сел за письменный стол и к полуночи закончил статью под
названием «О пользе ростовщичества». Допечатал ее и швырнул под стол – купить
марки было не на что, от пяти долларов не осталось ни цента.
Потом он заложил часы, а там и велосипед и, урезав расход на
еду, купил марок, наклеил на все рукописи и сызнова их разослал. Ремесленная
работа его разочаровала. Никто не желал покупать его поделки. Он сравнил их с
теми, что печатались в газетах, в еженедельниках и дешевых журнальчиках, и
решил, что его мелочишки лучше среднего уровня, куда лучше, – и однако их
не покупали. Потом он узнал, что почти все газеты печатают главным образом
материалы, которыми их бесплатно снабжают особые агентства, и раздобыл адрес
такого агентства. Посланные туда вещицы он получил обратно вместе со
стандартным листком‑извещением, что все необходимые материалы поставляют сами
сотрудники агентства.
В одном солидном журнале для юношества он увидел множество
мелких зарисовок и анекдотов. И решил попытать счастья. Все заметки ему
вернули, и хотя он посылал все новые и новые материалы, ни один не напечатали.
Много спустя, когда это уже не имело значения, Мартин узнал, что редакторы агентства
и их помощники, выгадывая себе надбавку к жалованью, сочиняли такую мелочишку
сами. Юмористические еженедельники возвращали его шутки и стишки, а бездумные
изящные вирши, предназначавшиеся для услаждения изысканной публики, которые он
посылал в толстые журналы, оказывались никому не нужны. Тогда он принялся
писать забавные истории для газет. Он знал, он может писать лучше тех, что
печатаются. Раздобыл адреса двух агентств печати, поставляющих материалы для
газет, и затопил их такими историями. Написал двадцать коротких историй, ни
одну не пристроил и забросил это. А ведь изо дня в день он читал такие вот
короткие рассказики в газетах и еженедельниках, десятки, чуть не сотни, и ни
один гроша ломаного не стоил по сравнению с тем, что писал он. Мартин совсем
пал духом, он решил, что ничего не понимает в литературе, что собственная
писанина загипнотизировала его, и он зря возомнил о себе невесть что.
Бесчеловечная редакторская машина по‑прежнему работала
бесперебойно. Он вкладывал в конверт рукопись и марки, опускал в почтовый ящик,
и недели через три, через месяц на крыльцо поднимался почтальон и вручал ему
рукопись, присланную обратно. Да нет там никаких живых редакторов из плоти и
крови. Одни лишь винтики, колесики, хорошо смазанные передачи– хитроумный механизм
с автоматическим управлением. Мартин впал в такое отчаяние, что усомнился,
существуют ли они вообще, эти самые редакторы, ведь еще ни разу никто из них не
подал признаков жизни, а по тому, как упорно, безо всяких критических замечаний
отвергалось все им написанное, казалось вполне вероятным, что редакторы– это
миф, измышленный и поддерживаемый рассыльными, наборщиками и печатниками.
Часы, проведенные подле Руфи, оставались единственной его
отрадой, да и они не всегда были радостны. Его неотступно грызла тревога,
терзала и мучила сильней, чем в былые дни, когда он еще не завоевал ее
любовь, – ведь до завоевания любимой было все так же далеко. Он попросил
два года, время летело, а он ничего еще не достиг. И его не оставляло сознание,
что она не одобряет его занятий. Она не говорила об этом прямо, но косвенно
давала это понять так же ясно и определенно, как если бы высказала вслух. Она
не возмущалась, нет, но не одобряла: девушка не столь кроткого нрава на ее
месте возмущалась бы, она же всего лишь была разочарована. А разочаровалась
потому, что человек, которого она намеревалась лепить по своему вкусу, не
желал, чтобы его лепили. До какого‑то предела он был податлив, как воск, а
потом встал на дыбы, не хотел он, чтобы его перекраивали по образу и подобию ее
отца и мистера Батлера.
Того, что было в Мартине сильного и благородного, Руфь не
замечала или, еще того хуже, не понимала. Человек, наделенный такой гибкой
натурой, что мог жить в самых неподходящих условиях, казался ей своевольным и
чудовищно упрямым, оттого что не могла она приспособить его к своему,
единственно ей известному образу жизни. Не дано ей было следовать за полетом
его мысли, и когда она не понимала его рассуждений, полагала, что он ошибается.
Рассуждения всех окружающих были понятны ей. Она всегда понимала, что говорят
мать и отец, братья и Олни, а потому, когда не понимала Мартина, виноватым
считала его. То была извечная трагедия – когда ограниченность стремится
наставлять на путь истинный ум широкий и чуждый предубеждений.
– Ты свято чтишь ходячие истины, все, что общепринято и
общепризнано, – сказал однажды Руфи Мартин, когда они заспорили о Прапсе и
Вандеруотере. – Согласен, чтобы цитировать, они куда как хороши– два самых
видных критика в Соединенных Штатах. Каждый школьный учитель в Америке смотрит
на Вандеруотера снизу вверх как на главу американской критики. Однако я читал
его писанину, и мне кажется, это образец бессмысленного краснобайства. Да ведь
он – спасибо Колетту Берджесу– попросту банален и смертельно окучен. И Прапс не
лучше. Его «Ядовитые мхи» прекрасно написаны. Все запятые на местах, а тон
– ну до чего величественный, до чего же величественный.
Ему платят больше всех критиков в Америке, хотя– прости меня боже– никакой он
не критик. В Англии уровень критики много выше.
Но эти двое изрекают то, что думает публика, и притом
изрекают так красиво, так нравственно, так самодовольно– вот где собака зарыта.
Их рецензии благонравны как воскресенье в Англии. Они– рупор общественного
мнения. Они поддерживают преподавателей языка и литературы, а те поддерживают
их. И ни у одного из них не откопаешь ни единой своеобычной мысли. Они признают
только общепринятое– в сущности, они и есть общепринятое. Они не блещут умом, и
общепринятое прилипает к ним так же легко, как ярлык пивного завода к бутылке
пива. И роль их заключается в том, чтобы завладеть молодыми умами,
студенчеством, загасить в них малейший проблеск самостоятельной оригинальной
мысли, если такая найдется, и поставить на них штамп общепринятого.
– Мне кажется, – возразила Руфь, – оттого,
что я придерживаюсь общепринятого, я ближе к истине, чем ты, когда ты
ополчаешься на все это, словно дикарь с островов Южного моря.
– Все святыни сокрушили сами миссионеры, – со
смехом возразил Мартин. – И к несчастью, все миссионеры отправились к
язычникам, и дома теперь некому сокрушать авторитеты мистера Вандеруотера и
мистера Прапса.
– А заодно и преподавателей колледжей, – прибавила
Руфь.
Мартин решительно покачал головой.
– Нет, преподаватели естественных наук пускай остаются.
Это поистине замечательный народ. А вот девяти десятым филологов и лингвистов,
этим безмозглым попугайчикам, очень бы полезно проломить головы.
Это было довольно жестоко по отношению к преподавателям
словесности, а для Руфи прозвучало святотатством. Не могла она не сравнивать
преподавателей, подтянутых, эрудированных, в хорошо сидящих костюмах, с хорошо
поставленными голосами, в ореоле культуры и утонченности, – с этим
невозможным юнцом, которого она почему‑то любит, хотя костюм никогда не будет
сидеть на нем хорошо, его выпирающие мускулы свидетельствуют о тяжком труде, в
разговоре он горячится, спокойные доказательства подменяет бранью, а
невозмутимое самообладание пылкими возгласами. Те, по крайней мере, хорошо
зарабатывают и они джентльмены – да, да, она вынуждена в этом
признаться, – а он не может заработать ни гроша, и, конечно же, он отнюдь
не джентльмен.
Она не взвешивала слов Мартина, не вдумывалась, доказательны
ли они. Пришла к убеждению, что он не прав, исходя– правда неосознанно– из
сопоставлений чисто внешних. Профессора и преподаватели правы в своих суждениях
о литературе, потому что они сделали карьеру. Суждения Мартина о литературе
ошибочны, потому что он не мог продать плоды своих трудов. Говоря словами
Мартина, они преуспели, а он– нет. Да и странно было бы, чтобы он оказался
прав, – он, который еще так недавно стоял в этой самой гостиной, пунцовый
от смущения, неуклюже здоровался с теми, кому его представляли, со страхом
озирался по сторонам, как бы раскачиваясь на ходу, стараясь не задеть плечом какую‑нибудь
безделушку, спрашивал, давно ли помер Суинберн, и хвастливо заявлял, что читал
«Эксцельсиор» и «Псалом жизни».
Сама того не сознавая, Руфь подтвердила слова Мартина, что
она преклоняется перед общепринятым. Мартину был внятен ход ее мыслей, но он
воздержался от дальнейшего спора. Не за ее отношение к Прапсу, Вандеруотеру и к
преподавателям английской словесности он любил Руфь и уже начинал понимать и
все больше убеждался, что иные предметы его размышлений и области знания,
доступные и открытые ему, для нее не только книга за семью печатями, но она
даже и об их существовании не подозревает.
Руфь полагала, что он ничего не смыслит в музыке, а, говоря
об опере, – умышленно все ставит с ног на голову.
– Тебе понравилось? – однажды спросила она
Мартина, когда они возвращались из оперы.
В тот вечер он повел ее в оперу, ради чего весь месяц
жестоко экономил на еде. Напрасно ждала она, чтобы он заговорил о своих
впечатлениях, и наконец, глубоко взволнованная увиденным и услышанным, сама
задала ему этот вопрос.
– Мне понравилась увертюра, – ответил он. –
Это было великолепно.
– Да, конечно, но сама опера?
– Тоже великолепно, я имею в виду оркестр, хотя я
получил бы куда больше удовольствия, если бы эти марионетки молчали или вовсе
ушли со сцены.
Руфь была ошеломлена.
– Надеюсь, ты не о Тетралани и не о Барильо? –
недоверчиво переспросила она.
– Обо всех о них, – обо всей этой компании.
– Но ведь они великие артисты, – возразила РУФЬ.
– Ну и что? Своими ужимками и кривляньем они только
мешали слушать музыку.
– Но неужели тебе не понравился голос Барильо? Говорят,
он первый после Карузо.
– Конечно, понравился, а Тетралани и того больше. Голос
у нее прекраснейший, по крайней мере так мне кажется.
– Но, тогда, тогда…– Руфи не хватало слов. – Я
тебя не понимаю. Сам восхищаешься их голосами, а говоришь, будто они мешали
слушать музыку.
– Вот именно. Я бы многое отдал, чтобы послушать их в
концерте, и еще того больше отдал, лишь бы не слышать их, когда звучит оркестр.
Боюсь, я безнадежный реалист. Замечательные певцы отнюдь не всегда
замечательные актеры. Когда ангельский голос Барильо поет любовную арию, а
другой ангельский голос– голос Тетралани– ему отвечает, да еще в сопровождении
свободно льющейся блистательной и красочной музыки– это упоительно, поистине
упоительно. Я не просто соглашаюсь с этим. Я это утверждаю. Но только
посмотришь на них, и все пропало– Тетралани ростом метр три четверти без
туфель, весом сто девяносто фунтов, а Барильо едва метр шестьдесят, черты
заплыли жиром, грудная клетка точно у коренастого кузнеца‑коротышки, и оба
принимают театральные позы, и прижимают руки к груди или машут ими, как
помешанные в сумасшедшем доме; и все это должно означать любовное объяснение
хрупкой красавицы принцессы и мечтательного красавца принца– нет, не верю я
этому, и все тут. Чепуха это! Нелепость! Неправда! Вот и все. Это неправда. Не
уверяй меня, будто хоть одна душа в целом свете вот так объясняется в любви. Да
если бы я посмел вот так объясниться тебе в любви, ты бы дала мне пощечину.
– Но ты понимаешь, – возразила Руфь. –
Каждое, искусство по‑своему ограниченно. (Она торопливо вспоминала слышанную в
университете лекцию об условности искусства.) В живописи у холста только два
измерения, но мастерство художника позволяет ему создать на полотне иллюзию
трех измерений, и ты принимаешь эту иллюзию. То же самое и в литературе–
писатель должен быть всемогущ.. Ты ведь согласишься с правом писателя
раскрывать тайные мысли героини, хотя прекрасно знаешь, что героиня думала обо
всем этом наедине с собой, и ни автор, ни кто другой не могли подслушать се
мысли. Так же и в театре, в скульптуре, в опере, во всех видах искусства. Какие‑то
противоречия неизбежны, их надо принимать.
– Ну да, понимаю, – ответил Мартин. – В
каждом искусстве свои условности. (Руфь удивилась, что он так к месту употребил
это слово. Можно было подумать, будто и он окончил университет, а не нахватался
случайных знаний из книг, взятых наудачу в библиотеке.) Но даже условности
должны быть правдивы. Деревья, нарисованные на картоне и поставленные по обе стороны
сцены, мы принимаем за лес. Это достаточно правдивая условность. Но, с другой
стороны, морской пейзаж мы не примем за лес. Не сможем принять. Это насилие над
нашими чувствами. Так и ты не можешь, вернее, не должна была принять это
неистовство, и кривлянье, и мучительные корчи двух помешанных за убедительное
изображение любви.
– Но не думаешь же ты, что разбираешься в музыке лучше
всех авторитетных ценителей? – возразила Руфь.
– Нет‑нет, у меня и в мыслях этого не было. Просто я
вправе иметь собственное мнение. Я старался тебе объяснить, почему слоновья
резвость госпожи Тетралани мешает мне насладиться оркестром. Ценители музыки во
всем мире, может быть, и правы. Но я сам по себе и не желаю подчинять свой вкус
единодушному мнению всех на свете ценителей. Если мне что‑то не нравится,
значит, не нравится, и все тут; так с какой стати, спрашивается, я стану делать
вид, будто мне это нравится, только потому, что большинству моих соплеменников
это нравится или они воображают, что нравится. Не могу я что‑то любить или не
любить по велению моды.
– Но, видишь ли, музыка требует подготовки, – не
соглашалась Руфь, – а опера тем более. И может быть…
– Может быть, я не подготовлен к тому, чтобы слушать
оперу? – перебил Мартин. Руфь кивнула.
– Это верно, – согласился он. – И надо
думать, мне очень повезло, что меня туда не водили с детства. А водили бы, и
сегодня вечером я бы растрогался и прослезился, и клоунское кривлянье
драгоценной парочки только еще прибавило бы красоты их голосам и оркестровому
сопровождению. Ты права. Дело главным образом в подготовке. А я уже вырос из
пеленок. Мне требуется или правда или ничего. Иллюзия, которая не убеждает, это
явная ложь, и когда коротышка Барильо, распалясь, страстно стискивает в
объятиях великаншу Тетралани, тоже охваченную страстью, и поет ей о своей
несравненной любви, я вижу в этом только ложь.
И опять Руфь мерила мысли Мартина, исходя из сопоставлений
чисто внешних, в согласии со своей верой в общепринятое. Кто он таков, чтобы он
оказался прав, а весь культурный мир не прав? Она попросту не воспринимала ни
слов его, ни мыслей. Слишком прочно в ней укоренилось все общепринятое, чтобы
сочувствовать его бунтарским взглядам. Она с самого детства слушала музыку, с
самого детства любила оперу, и в ее окружении все любили оперу. Так по какому
же праву приходит Мартин Иден, который еще недавно только и слышал регтаймы да
простонародные песенки, и судит о великой музыке? Руфь сердилась на него, и
сейчас, идя рядом ним, чувствовала себя оскорбленной. В лучшем случае, если уж
быть очень снисходительной, она, пожалуй, готова счесть его утверждения
капризом, нелепой и неуместной выходкой. Но когда у дверей ее дома он на
прощанье обнял ее и нежно, влюбленно поцеловал, она все забыла в приливе любви
к нему. И потом, в постели, никак не могла уснуть и сама себе удивлялась, не
впервые за последнее время, как это она полюбила такого странного человека, и
еще несмотря на неодобрение родных.
А назавтра Мартин Иден отложил ремесленную работу и в один
присест отстучал эссе, которое назвал «Философия иллюзии». Наклеил марку, и
рукопись отправилась в путь, но в последующие месяцы для нее потребовалось еще
много марок и много раз суждено ей было пускаться в путь.
|


