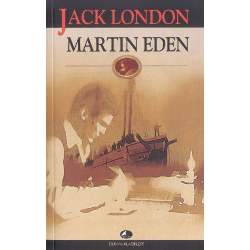
 Увеличить Увеличить |
Глава 36
– Пойдемте, я покажу вам людей из настоящего
теста, – однажды январским вечером сказал Бриссенден.
Они пообедали вместе в Сан‑Франциско и ждали обратного
парома на Окленд, как вдруг ему вздумалось показать Мартину «людей из
настоящего теста». Он повернулся " стремительно зашагал по набережной,
тощая тень в распахнутом пальто, Мартин едва поспевал за ним. В оптовой винной
лавке он купил две четырехлитровые оплетенные. бутылки Старого портвейна и,
держа по бутыли в каждой руке, влез в трамвай, идущий к Мишшен‑стрит; Мартин,
нагруженный несколькими бутылками виски, вскочил следом.
«Видела бы меня сейчас Руфь», – мелькнуло у него, пока
он гадал, что же это за настоящее тесто:
– Возможно, там никого и не будет, – сказал
Бриссенден, когда они сошли с трамвая, свернули направо и углубились в самое
сердце рабочего района. южнее Маркет‑стрит. – В таком случае вы упустите
то, что так давно ищете.
– Что же именно, черт возьми? – спросил Мартин.
– Люди, умные люди, а не болтливые ничтожества, с
которыми я вас застал в логове того торгаша. Вы читали настоящие книги и
почувствовали себя там белой вороной. Что ж, сегодня я вам покажу других людей,
которые тоже читали настоящие книги, так что вы больше не будете в одиночестве.
– Не то, чтобы я вникал в их вечные споры, –
сказал Бриссенден на следующем углу. – Книжная философия меня не
интересует. Но люди они незаурядные, не то что свиньи‑буржуа. Только держите
ухо востро, не то они заговорят вас до смерти – о чем бы ни шла речь.
– Надеюсь, мы застанем там Нортона, – еле
выговорил он немного погодя; он тяжело дышал, не напрасно Мартин пытался взять
у него бутыли с портвейном. – Нортон – идеалист, учился в Гарварде.
Невероятная память. Идеализм привел его к философии анархизма, и родные выгнали
его из дому. Его отец президент железнодорожной компании, мультимиллионер, а
сын голодает в Сан‑Франциско, редактирует анархистскую газетку за двадцать пять
долларов в месяц.
Мартин плохо знал Сан‑Франциско, и уж вовсе не знал район
южнее Маркет‑стрит, и понятия не имел, куда его ведут.
– Рассказывайте еще, – попросил он. – Что там
за народ? Чем они зарабатывают на жизнь? Как сюда попали?
– Надеюсь, Хамилтон дома, – Бриссенден остановился
передохнуть, опустил бутыли наземь. – Вообще‑то он Строун‑Хамилтон…
двойная фамилия, через дефис, – он из старого южного рада. Бродяга…
человека ленивее я в жизни не встречал, хотя служит канцеляристом, вернее,
пробует служить в кооперативном магазине социалистов за шесть долларов в
неделю. Но он по природе перекати‑поле. Забрел в Сан‑Франциско. Однажды он
просидел весь день на уличной скамейке, за весь день во рту ни крошки, а
вечером, когда я пригласил его пообедать в ресторане, тут, за два квартала, он
говорит: «Еще идти. Купите‑ка мне лучше пачку сигарет, приятель». Он, как и вы,
исповедовал Спенсера, покуда Крейс не обратил его в мониста‑матералиста. Если
удастся, я вызову его на разговор о монизме. Нортон тоже монист… Но идеалист,
для него существует только дух. Он знает не меньше Крейса и Хамилтона, даже
больше.
– Кто такой Крейс? – опросил Мартин.
– Мы к нему идем. Бывший профессор… уволен из
университета… обычная история. Память‑стальной капкан. На жизнь зарабатывает
чем придется.
Одно время, когда очутился вовсе на мели, был бродячим
фокусником. Неразборчив в средствах. Может и украсть – хоть саван с покойника…
на все способен. Разница между ним и буржуа, что крадет, не обманывая себя.
Готов говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но, в сущности,
из всего на свете, включая Мэри, ему по‑настоящему интересен только его монизм.
Его божок– Геккель. Единственный способ его оскорбить
– это ругнуть Геккеля.
–Ну вот и место сборищ. – Войдя в подъезд, Бриссенден
поставил обе бутылки и перевел дух– надо было еще подняться по лестнице. Это
был обыкновенный двухэтажный угловой дом, внизу‑бакалейная лавка и
пивная. – Здесь обитает вся компания, занимает весь верх. Но только у
Крейса две комнаты. Идемте.
Свет в верхнем коридоре не горел, но в полной темноте
Бриссенден двигался привычно, как домовой. Приостановился, опять заговорил.
– Есть у них еще такой Стивенс. Теософ. Когда
разойдется, даже дважды два усложнит л запутает. Сейчас мойщик посуды в
ресторане. Любит хорошую сигару. Я раз видел, он перекусил за десять центов в
забегаловке, а потом выкурил сигару за пятьдесят. У меня в кармане припасены
две штуки, на случай если он покажется.
И еще один есть, Парри, австралиец, статистик и ходячая
энциклопедия. Спросите его, каков был урожай зерновых в Парагвае в тысяча
девятьсот третьем, или сколько простынной ткани Англия поставила в Китай в
тысяча восемьсот девяностом, или в каком весе Джимми Бритт победил Бетлинга
Нелспна, или кто был чемпионом Соединенных Штатов в полусреднем весе в тысяча
восемьсот шестьдесят восьмом и он выдаст правильный ответ со скоростью игорного
автомата. И еще есть Энди, каменщик, полон идей обо всем на свете, хороший
шахматист; и Харри, пекарь, ярый социалист и одни из профсоюзных вожаков.
Кстати, помните стачку поваров и официантов‑это Хамилтон организовал тот
профсоюз и провернул стачку – все заранее спланировал вот тут, у Крейса.
Проделал это все ради собственного удовольствия, но в профсоюзе не остался,
слишком ленив. А если бы захотел, пошел бы далеко. На редкость способный
человек, но непревзойденный лентяй.
Брйссенден продвигался в темноте, пока не завиднелась
полоска света из‑под какой‑то двери. Стук, чей‑то голос в ответ, дверь
отворилась, и вот уже Мартин обменивается рукопожатием с Крейсом, смуглым
красавцем с ослепительно белыми зубами, черными вислыми усами и черными
сверкающими глазами. Мэри, полная молодая блондинка, мыла тарелки в задней
комнатке (она же кухня и столовая). Первая комната служила спальней и гостиной.
Гирлянды выстиранного белья висели так низко над головой, что поначалу Мартин
не заметил двух мужчин, беседующих в углу. Они шумно и радостно приветствовали
Бриссендена и его бутыли, и, когда Мартина познакомили, оказалось, это Энди и
Парри. Мартин присоединился к ним и внимательно слушал рассказ Парри о
боксерском состязании, на котором он был накануне вечером; тем временем
Бриссенден, как заправский бармен, готовил пунш и разливал вино и виски с
содовой. Потом он скомандовал: «Давайте всех сюда»‑и Энди пошел по всему этажу
созывать жильцов.
– Нам повезло, почти все дома, – шепнул Мартину
Бриссенден. – Вот и Нортон и Хамилтон, подите познакомьтесь. Стивенса, я
слышал, нету. Попробую заведу их на монизм. Вот погодите, они опрокинут
стаканчик‑другой, тогда разойдутся.
Поначалу разговор перескакивал с одного на другое. И все
равно Мартин не мог не оценить живую игру их мысли. У каждого был свой взгляд
на вещи, хотя взгляды их зачастую оказывались противоположными; и хотя спорили
они остроумно и находчиво, но не поверхностно. Мартин скоро понял – это было
ясно, о чем бы ни зашла речь, – что у каждого есть связная система знаний
и цельное, хорошо обоснованное представление об обществе и о вселенной. Они не
пользовались готовыми мнениями, все они, каждый на свой лад, были мятежники, и
никто не изрекал избитых истин. Мартин никогда не слышал, чтобы у Морзов
обсуждался такой широкий круг разнообразнейших тем. Казалось, они о чем угодно
могут с увлечением толковать хоть ночь напролет. Разговор переходил от новой
книги миссис Хемфри Уорд к последней пьесе Шоу, через будущее драмы к
воспоминаниям о Менсфилде. Они одобряли или высмеивали передовые статьи
утренних газет, говорили об условиях труда в Новой Зеландии, а потом о Генри
Джеймсе и Брандере Мэтьюзе, обсуждали притязания Германии на Дальнем Востоке и
экономическую сторону «желтой опасности», ожесточенно спорили о выборах в
Германии и о последней речи Бебеля, а там доходила очередь и до местных
политических махинаций, до новейших замыслов и распрей руководства Объединенной
рабочей партии, до сил, приведенных в действие, чтобы вызвать забастовку
портовых рабочих. Мартина поразила их осведомленность. Им было известно то, о
чем никогда не писали газеты – пружины, и рычаги, и невидимые глазу руки,
которые приводят в движение марионеток. К удивлению Мартина, молодая хозяйка,
Мэри, вступила в разговор и оказалась на редкость умной и знающей, таких женщин
Мартин почти не встречал. Побеседовали о Суинберне и Россетти, а лотом она
принялась толковать о таком, о чем он и представления не имел, завела его на
боковые тропинки французской литературы. Он отыгрался, когда она принялась
защищать Метерлинка, а он пустил в ход тщательно продуманные мысли, которые
развивал в «Позоре солнца».
Появились еще несколько человек, в комнате стало не продохнуть
от табачного дыма, и тут Бриссенден дал старт.
– Вот вам новая жертва, Крейс, – сказал он. –
Неоперившийся птенец, пылкий поклонник Герберта Спенсера. Обратите его в
геккельянца, если сумеете.
Крейс будто проснулся, засиял, как металл под лучом света, а
Нортон посмотрел на Мартина сочувственно, с мягкой, девичьей улыбкой, словно
обещая надежно его защитить.
Крейс повел наступление на Мартина, но Нортон вмешался раз,
другой, третий, и вскоре между ним и Крейсом завязался ожесточенный поединок.
Мартин слушал и не верил ушам. Невероятно, непостижимо, да еще в рабочем
квартале к югу от Маркет‑стрит. В устах этих людей ожили книги, которыми он
зачитывался. Они говорили страстно, увлеченно. Мысль горячила, их, как других
горячат алкоголь или гнев. Философия перестала быть сухими печатными строчками
из книг легендарных полубогов вроде Канта и Спенсера. Философия ожила,
воплотилась вот в этих двоих, наполнилась кипучей алой кровью, преобразила их
лица. Порой кто‑нибудь еще вставлял слово, и все зорко, напряженно следили за
спором и не переставая курили.
Идеализм никогда не привлекал Мартина, но то, как
преподносил его сейчас Нортон, было откровением. Логика нортоновских
рассуждений показалась ему убедительной, но, видно, не убеждала Крейса и
Хамилтона, они насмехались над ним, обличали его в метафизике, а он, в свою
очередь, насмешливо обличал в метафизике их обоих. Противники метали друг в
друга слова «феномен» и «ноумен». Те двое обвиняли Нортона в стремлении
объяснить сознание, исходя из самого сознания. Нортон же обвинял их в
жонглировании словами, в том, что они воздвигают теорию, опираясь на слово,
тогда как теория должна опираться на факты. Такое обвинение их ошеломило. Ведь
важнейший их принцип был – рассуждать, исходя из фактов, и фактам давать
наименования.
Нортон углубился в философские сложности Канта, и Крейс
напомнил ему, что все милые немецкие философийки, испустив дух, переправляются
в Оксфорд. Немного погодя Нортон напомнил хамилтоновский закон краткости
доказательств, и те двое тотчас заявили, что они‑то неуклонно следуют этому
закону. Мартин сидел, обхватив руками колени, слушал и наслаждался. Однако
Нортон вовсе не был последователем Спенсера и тоже покушался на душу
новичка, – он не только возражал своим противникам, но и стремился
обратить Мартина в свою веру.
– Как известно, Беркли так и не был опровергнут, –
сказал он, прямо глядя на Мартина. – Больше всех в этом преуспел Герберт
Спенсер, но и его успехи невелики. А большего не добиться даже самым верным
последователям Спенсера. На днях я читал эссе Сейлиби, и он только и сказал,
что Герберт Спенсер, опровергая Беркли, почти преуспел.
– А что сказал Юм, вам известно?‑спросил Хамилтон.
Нортон кивнул, но Хамилтон все равно продолжал для сведения остальных, –
Он сказал, что аргументы Беркли неопровержимы, но не убеждают.
– Не убеждают Юма, – последовало
возражение. – А у Юма та же точка зрения, что у вас, с одной лишь
разницей: у него хватило мудрости признать, что Беркли неопровержим.
Нортон был чуток и уязвим, хотя ни на минуту не терял
самообладания, Крейс же и Хамилтон. точно два свирепых дикаря, выискивали, куда
бы побольнее кольнуть и ударить. Спор затянулся, и Нортон, выведенный из себя
бесконечными обвинениями в метафизике, ухватился за стул, чтобы не вскочить,
серые глаза его сверкали, девичье лицо стало жестким и уверенным, и он
обрушился на позиция противника.
– Ладно, слушайте, вы, геккельянцы, пусть я рассуждаю
как шаман, но, скажите на милость, вы‑то как рассуждаете? Вам не на что
опереться, вы носитесь со своим позитивизмом, вечно приплетаете его куда
попало, совсем не к месту. Задолго до того, как появилась школа
материалистического монизма, у него была уже выбита почва из‑под ног и нет у
него никакого фундамента. Это Локк сделал, Джон Локк. Двести лет назад… даже
больше… в своем «Опыте о человеческом разуме» он доказал, что врожденных идей
не существует. Ну, и прекрасно, а вы по сей день твердите, то же самое. Весь
вечер уверяете меня, что врожденных идей не существует. А что это значит? Это
значит, что человек никогда не узнает реальную сущность вещей. При рождении в
голове у человека пусто. Пять чувств могут дать мозгу представление лишь о
внешнем, то есть о феноменах. Что касается ноуменов, при рождении их не
существует, и они никак не могут проникнуть в мозг…
– Неверно…. – прервал было Крейс.
–Дай досказать!‑крикнул Нортон. – О действии и
взаимодействии силы и материи мы узнаем лишь постольку, поскольку они так или
иначе приходят в соприкосновение с нашими чувствами. Видите, чтобы облегчить
себе задачу, я готов допустить, что материя существует; и я намерен разбить вас
с помощью ваших же доводов. По‑другому этого не сделать, ведь вы оба по самой
своей природе неспособны понять философскую абстракцию.
Так что же, исходя из вашей позитивной науки, вам известно о
материи? Она известна вам только по ее феноменам, по ее внешним признакам. Вы
воспринимаете лишь ее изменения, вернее, те ее изменения, которые что‑то меняют
в вашем сознании. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы,
сумасброды, воображаете, что вам доступны ноумены, и мните себя онтологами.
Однако по самому определению позитивной науки она занимается лишь внешней
стороной явлений. Как сказал кто‑то, знание, получаемое при помощи чувственного
восприятия, не может подняться над феноменами.
Вы не можете опровергнуть Беркли, даже если вы полностью
уничтожили Канта, и однако, утверждая, будто наука доказала, что бога не
существует, или – а это одно и то же – что существует материя, вы волей‑неволей
признаете, что Беркли ошибается… Заметьте, я допускаю существование материи
только для того, чтобы вы могли понять мою мысль. Будьте, если угодно,
позитивистами, но в позитивной науке онтологии нет места, так что оставьте ее а
покое. Спенсер прав в своем агностицизме, но если Спенсер… Однако пора было
уходить, чтобы поспеть на последний паром в Окленд, и Мартин с Бриссенденом
выскользнули из комнаты, а Нортон все говорил, а Крейс с Хамилтоном ждали,
когда он кончит, готовые наброситься на него подобно охотничьим псам.
– Вы дали мне заглянуть в волшебную страну, –
сказал Мартин на пароме. – Когда видишь таких людей, стоит жить. У меня
сейчас мысли так и кипят. Я впервые по достоинству оценил идеализм. Но принять
его не могу. Нет, я всегда буду реалистом. Видно, уж таким уродился. Но хотел
бы я кое‑что ответить Крейсу и Хамилтону, и, пожалуй, у меня найдется словечко‑другое
и для Нортона. Не вижу, чтобы они в чем‑то опровергли Спенсера. Никак не
успокоюсь, чувствую себя мальчишкой, впервые побывавшим в цирке. Надо мне кое‑что
почитать. Непременно прочту Сейлиби. По‑моему, Спенсер все равно неопровержим,
и в следующий раз я вмешаюсь в спор.
Но Бриссенден уже дремал – дышал он тяжело, подбородком
уткнулся в кашне, прикрывавшее впалую грудь, и тело его в длинном и чересчур
просторном пальто подрагивало в такт оборотам гребных винтов.
|


