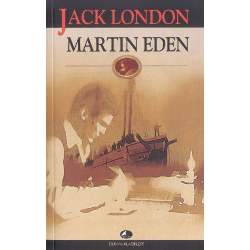
 Увеличить Увеличить |
Глава 4
Мартин Иден у которого от стычки с зятем все кипело внутри,
ощупью пробрался по темному коридору и вошел к себе в крохотную каморку для
прислуги, где только и умещались кровать, умывальник да стул. Мистер
Хиггинботем из скаредности прислугу не держал – жена и сама справится. К тому
же комната прислуги позволяла пускать не одного, а двух квартирантов. Мартин
положил Суинберна и Браунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины
одышливо заскрипели под ним, но он не обратил на это внимания. Начал было
снимать башмаки, но вдруг уперся взглядом в стену напротив, где на белой
штукатурке проступали длинные грязно‑бурые пятна – следы протекшего сквозь
крышу дождя, и увидел: на этом нечистом фоне то плывут, то вспыхивают видения.
Он забыл про башмаки, и смотрел долго‑долго, потом губы его дрогнули и он
шепнул: «Руфь!»
«Руфь!» Он и помыслить не мог, что обыкновенный звук может
быть так прекрасен. Имя это ласкало слух, и Мартин упоенно повторял его:
«Руфь!» То был талисман, волшебное слово, заклинанье. Стоит прошептать его – и
вот уже перед ним мерцает ее лицо, золотым сияньем заливает грязную стену. И не
только стену. Оно уплывает в бесконечность, и душа устремляется за ним в эти
золотые глубины на поиск ее души. Все лучшее, что было в Мартине, изливалось
великолепным потоком. Уже одна мысль о ней облагораживала и очищала его, делала
лучше и рождала желание стать лучше. Это было ново. Никогда еще не встречал он
женщину, рядом с которой стал 6ы лучше. Наоборот, все они будили в нем
животное. Он этого и не подозревал, но как ни жалок был их дар, многие отдали
ему лучшее, что в них было. Никогда не задумываясь о самом себе, он не
догадывался, что есть в нем что‑то, пробуждающее любовь в женских
сердцах, – и потому их так к нему влечет. Женщины часто его добивались,
сам же он ничуть их не добивался; и никогда бы не подумал, что благодаря ему
иные женщины становились лучше. До сих пор он смотрел на них с беззаботной
снисходительностью, а теперь ему казалось, женщины вечно цеплялись за него,
тянули вниз своими грязными руками. Было это несправедливо по отношению к ним и
к себе. Но, впервые задумавшись о самом себе, он и не мог судить по
справедливости, прошлое теперь виделось ему позорным, и он сгорал от стыда.
Он порывисто поднялся и попробовал разглядеть себя в грязном
зеркале над умывальником. Провел по зеркалу полотенцем и опять стал себя
рассматривать, долго, внимательно. Впервые в жизни он посмотрел на себя по‑настоящему.
Глаза у него были зоркие, но до этой самой минуты замечали лишь вечно
изменчивую картину мира, в который он всматривался так жадно, что всматриваться
в себя было уже недосуг. Он увидел голову и лицо молодого двадцатилетнего
парня, но, непривычный оценивать мужскую внешность, не понял, что тут хорошо, а
что плохо. На широкий выпуклый лоб падают темный каштановые пряди, волнистые,
даже чуть кудрявятся – ими восхищалась каждая женщина, каждой хотелось гладить
их ласково, перебирать. Но он лишь скользнул по этой гриве взглядом, решив, что
в Ее глазах это не достоинство, зато долго, задумчиво разглядывал высокий
квадратный лоб, стараясь проникнуть внутрь, понять, хорошая ли у него голова.
Толковые ли мозги скрываются за этим лбом – вот вопрос, который сейчас его
донимал. На что они способны? Далеко ли они его поведут? Приведут ли к Ней?
Интересно, видна ли душа в этих серо‑стальных глазах, часто
совсем голубых, вдвойне зорких оттого, что привыкли всматриваться в соленые
дали озаренного солнцем океана. И еще интересно, какими его глаза кажутся ей.
Он попробовал вообразить, что чувствует она, глядя в его глаза, но фокус не
удался. Он вполне мог влезть в чужую шкуру, – но лишь если знал, чем и как
тот человек живет. А чем и как живет она? Она чудо, загадка, где уж ему угадать
хоть одну ее мысль! Ладно, по крайней мере, глаза у него честные, низости и
подлости в них нет. Коричневое от загaра лицо поразило его. Ему и невдомек
было, что он такой черный. Он закатал рукав рубашки, сравнил белую кожу ниже локтя,
изнутри, с лицом. Да, все‑таки он белый человек. Но руки тоже загорелые. Он
вывернул руку, другой рукой перекатил бицепс, посмотрел с той стороны, куда
меньше всего достает солнце. Рука там совсем белая. Подумал, что бронзовое
лицо, отраженное в зеркале, когда‑то было таким же белым, и засмеялся: ему и в
мысль не пришло, что немного найдется на свете бледноликих фей, которые могли
похвастаться кожей светлей и глаже, чем у него, светлей, чем там, где ее не
опалило яростное солнце.
Рот был бы совсем как у херувима, если бы не одна
особенность его полных чувственных губ: в минуту напряжения он крепко их
сжимает. Порою стиснет в ниточку – и рот становится суровый, непреклонный, даже
аскетический. У него губы бойца и любовника. Того, кто способен упиваться сладостью
жизни, а может ею пренебречь и властвовать над жизнью. Подбородок и нижняя
челюсть сильные, чуть выдаются вперед с оттенком той же воинственности. Сила в
нем уравновешивает чувственность и как бы привносит в нее свежесть, заставляя
любить красоту только здоровую и отзываться ощущениям чистым. А меж губами
сверкают зубы, которые не ведали забот дантиста и не нуждались в его помощи.
Белые зубы, крепкие, ровные, решил Мартин, разглядывая их. И, разглядывая,
вдруг забеспокоился. Откуда‑то из глубин памяти всплыло смутное впечатление:
вроде есть на свете люди, которые каждый день чистят зубы. Люди, что стоят куда
выше него, люди ее круга. Наверно, и она каждый день чистит зубы. Что бы она
подумала, узнай она, что он отродясь не чистил, зубы? Он непременно купит
зубную щетку, будет и у него такая привычка. Завтра же начнет, не откладывая.
Одними только подвигами до нее не дотянешься. Придется и в обиходе своем все
менять, и зубы чистить, и ошейник носить, хотя надеть крахмальный воротничок
для него – все равно что отречься от свободы.
Он все не опускал руку, потирая большим пальцем мозолистую
ладонь и разглядывая ее – грязь будто въелась в самую плоть, никакой щеткой не
отдерешь. А какая ладонь у нее! Вспомнил и чуть не захлебнулся восторгом. Точно
лепесток розы, подумал он; прохладная и нежная, будто снежинка. Вот уж не
представлял, что женская рука, всего лишь рука, может быть такой восхитительно
нежной… Вообразилось чудо – как она ласкает, такая рука, он поймал себя на этой
мысли и виновато покраснел. Слишком грубо, не годится так думать о ней. Такая
мысль вроде спорит с возвышенностью ее души. Вся она – хрупкий светлый дух,
недосягаемый для всего низменного, плотского; и все‑таки опять и опять
возвращалось это ощущение – ее нежная ладонь в его руке. Он привык к шершавым,
мозолистым рукам фабричных девчонок и женщин, занятых тяжелой работой. Что ж,
понятно, отчего их руки такие жесткие, но ее ладонь… Она такая нежная оттого,
что никогда не знала труда. С благоговейным страхом он подумал: а ведь кому‑то
незачем работать ради куска хлеба, и между ним и Руфью разверзлась пропасть.
Ему вдруг представилась эта аристократия – люди, которые не трудятся. Будто
огромный бронзовый идол вырос перед ним на стене, надменный и могущественный.
Сам он работал с детства, кажется, даже первые воспоминания связаны с работой,
и все его родные работали ради куска хлеба. Вот Гертруда. Руки ее загрубели от
бесконечной домашней работы и то и дело распухают от стирки, багровеют, точно
вареная говядина. А вот другая, его сестра, Мэриан. Прошлым летом она работала
на консервном заводе, и ее славные тоненькие ручки теперь все в шрамах от
ножей, резавших помидоры. Да еще по суставу на двух пальцах отхватила прошлой
зимой резальная машина на картонажной фабрике. В памяти остались загрубелые
ладони матери, когда она лежала в гробу. И отец работал до последнего вздоха; к
тому времени, как он умер, ладони его покрывали мозоли в добрых полдюйма
толщиной. А у Нее руки мягкие, и у ее матери, и даже у братьев. Вот это всего
поразительней; вернейший, ошеломляющий знак высшей касты, знак того, как
бесконечно далека Руфь от него, Мартина.
Горько усмехнувшись, он опять сел на кровать и наконец снял
башмаки. Дурак. Опьянел от женского лица, от нежных белых ручек. А потом у него
перед глазами, на грязной штукатурке стены, вдруг возникла картина. Он стоит у
мрачного многоквартирного дома. Поздний вечер, лондонский Ист‑Энд, и подле него
стоит Марджи, пятнадцатилетняя фабричная девчонка. Он проводил ее домой после
обеда, который раз в году хозяин устраивает для рабочих. Она жила в этом
мрачном доме, где и свинье‑то не место. Он протянул руку на прощанье. Марджи
подставила губы для поцелуя, но он не собирался ее целовать. Почему‑то он ее
побаивался. И тогда она лихорадочно стиснула его руку. Он почувствовал, какая у
нее жесткая мозолистая ладонь, и волна жалости захлестнула его. Он увидел ее
тоскливые голодные глаза, истощенное недоеданием почти еще детское тело,
пугливо и неистово рванувшееся из детства к зрелости. И он обнял ее с
бесконечным состраданием, наклонился и поцеловал в губы. Она негромко радостно
вскрикнула и по‑кошачьи прильнула к нему. Несчастный заморыш! Мартин все
вглядывался в эту картину далекого прошлого. По коже поползли мурашки, как в то
вечер когда она приникла к нему и сердце его согрела жалость. Какая серая
картина, все склизко серое, и под моросящим дождем склизкие камни мостовой. А
потом лучезарное сиянье разлилось по стене, и, заслоняя ту картину, проступило,
замерцало бледное лицо Руфи в короне золотых волос, далекое и недосягаемое, как
звезда.
Он взял со стула книги – Браунинга и Суинберна – и поцеловал
их. «А все равно– она мне сказала прийти опять», – подумал он. Еще раз
глянул на себя в зеркало и громко, торжественно произнес:
– Мартин Иден, завтра первым делом пойдешь в библиотеку
и почитаешь, как полагается вести себя в обществе. Понятно?
Он погасил свет, и под тяжестью его тела заскрипели пружины.
– И еще надо бросить сквернословить, дружище, надо
бросить сквернословить, – сказал он вслух.
Он задремал, потом заснул, и такие ему снились диковинные
сны, какие может увидеть разве что курильщик опиума.
|


