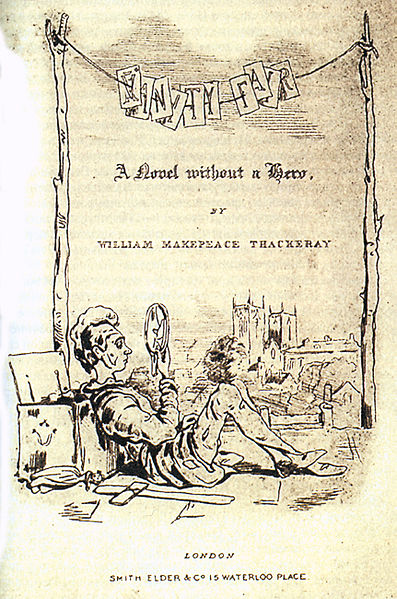
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА LXIV
Неприкаянная глава
Мы
вынуждены опустить часть биографии миссис Ребекки Кроули, проявив всю деликатность
и такт, каких требует от нас общество – высоконравственное общество, которое,
возможно, ничего не имеет против порока, но не терпит, чтобы порок называли его
настоящим именем.
На
Ярмарке Тщеславия мы много чего делаем и знаем такого, о чем никогда не
говорим: так поклонники Аримана молятся дьяволу, не называя его вслух. И
светские люди не станут читать достоверное описание порока, подобно тому как
истинно утонченная англичанка или американка никогда не позволит, чтобы ее
целомудренного слуха коснулось слово «штаны». А между тем, сударыня, и то и
другое каждодневно предстает нашим взорам, не особенно нас смущая. Если бы вы
краснели всякий раз, как они появляются перед вами, какой был бы у вас цвет
лица! Лишь когда произносятся их недостойные имена, ваша скромность считает
нужным чувствовать себя оскорбленной и бить тревогу; поэтому автором настоящей
повести с начала до конца руководило желание строго придерживаться моды нашего
века и лишь намекать иногда на существование в мире порока, намекать легко,
грациозно, приятно – так, чтобы ничьи тонкие чувства не оказались задетыми.
Пусть кто-нибудь попробует утверждать, что наша Бекки, которой, конечно, нельзя
отказать в кое-каких пороках, не была выведена перед публикой в самом
благородном и безобидном виде! Автор со скромной гордостью спрашивает у своих
читателей, забывал ли он когда-нибудь законы вежливости и, описывая пение,
улыбки, лесть и коварство этой сирены, позволял ли мерзкому хвосту чудовища
показываться над водою? Нет! Желающие могут заглянуть в волны, достаточно
прозрачные, и посмотреть, как этот хвост мелькает и кружится там,
отвратительный и липкий, как он хлопает по костям и обвивает трупы. Но над
поверхностью воды разве не было все отменно прилично и приятно? Разве может ко
мне придраться даже самый щепетильный моралист на Ярмарке Тщеславия? Правда,
когда сирена исчезает, ныряя в глубину, к мертвецам, вода над нею становится мутной,
и потому, сколько ни вглядывайся в нее, все равно ничего не увидишь. Сирены
довольно привлекательны, когда они сидят на утесе, бренчат на арфах,
расчесывают себе волосы, поют и манят вас, умоляя подержать им зеркало; но
когда они погружаются в свою родную стихию, то, поверьте мне, от этих морских
дев нельзя ждать ничего хорошего, и лучше уж нам не видеть, как эти водяные
людоедки пляшут и угощаются трупами своих несчастных засоленных жертв. Итак,
будьте уверены, что, когда мы не видим Бекки, она занята не особенно хорошими
делами, – и чем меньше говорить об этих ее делах, тем, право же, будет
лучше.
Если бы
мы дали полный отчет о поведении Бекки за первые несколько лет после катастрофы
на Керзон-стрит, то у публики, пожалуй, нашлись бы основания сказать, что наша
книжка непристойна. Поступки людей очень суетных, бессердечных, гоняющихся за
удовольствиями, весьма часто бывают непристойными (как и многие ваши поступки,
мой друг, с важной физиономией и безупречной репутацией, – но об этом я
упоминаю просто к слову). Каких же поступков ждать от женщины, не имеющей ни
веры, ни любви, ни доброго имени! А я склонен думать, что в жизни миссис Бекки
было время, когда она оказалась во власти не угрызений совести, но какого-то
отчаяния, и совершенно не берегла себя, не заботясь даже о своей репутации.
Такое
abattement[165]
и нравственное падение наступили не сразу, они появились постепенно – после ее
несчастья и после многих отчаянных попыток удержаться на поверхности. Так человек,
упавший за борт, цепляется за доску, пока у него остается хоть искра надежды, а
потом, убедившись, что борьба напрасна, разжимает руки и идет ко дну.
Пока
Родон Кроули готовился к отъезду во вверенные ему заморские владения, Бекки
оставалась в Лондоне и, как полагают, не раз предпринимала попытки повидаться
со своим зятем, сэром Питтом Кроули, с целью заручиться его поддержкой, которой
она перед тем почти успела добиться. Однажды, когда сэр Питт и мистер Уэнхем
направлялись в палату общин, последний заметил, что около дворца
законодательной власти маячит миссис Родон в шляпке под черной вуалью.
Встретившись глазами с Уэнхемом, она быстро скользнула прочь, да и после этого
ей так и не удалось добраться до баронета.
Вероятно,
в дело вмешалась леди Джейн. Я слышал, что она изумила супруга твердостью духа,
проявленной ею во время ссоры, и своей решимостью не признавать миссис Бекки.
Она по собственному почину пригласила Родона прожить у них все время до его
отъезда на остров Ковентри, зная, что при такой надежной охране миссис Бекки не
посмеет ворваться к ним в дом, и внимательно изучала конверты всех писем,
адресованных сэру Питту, чтобы в случае чего пресечь переписку между ним и его
невесткой. Разумеется, вздумай Ребекка ему написать, она могла бы ото сделать,
но она не пыталась ни повидаться с сэром Питтом, ни писать ему на дом и после
одной или двух попыток согласилась на его просьбу направлять ему всю
корреспонденцию касательно своих семейных неурядиц только через посредство
адвоката.
Дело в
том, что Питта сумели восстановить против Ребекки. Вскоре после несчастья, постигшего
лорда Стайна, Уэнхем побывал у баронета и познакомил его с некоторыми подробностями
биографии миссис Бекки, которые сильно удивили члена парламента от Королевского
Кроули. Уэнхем знал о Бекки все: кем был ее отец, в каком году ее мать
танцевала в опере, каково было ее прошлое и как она себя вела во время своего
замужества. Поскольку я уверен, что большая часть этого рассказа была лжива и
продиктована личным недоброжелательством, я не буду повторять его здесь. Но
после этого Ребекке уже нечего было надеяться обелить себя в глазах почтенного
землевладельца и родственника, некогда дарившего ее своей благосклонностью.
Доходы
губернатора острова Ковентри невелики. Часть их его превосходительство откладывал
для оплаты кое-каких неотложных долгов и обязательств; само его высокое
положение требовало значительных расходов; и в конце концов оказалось, что
Родон не может выделить жене более трехсот фунтов в год, каковую сумму он и
предложил платить ей, при условии, что она никогда не будет его
беспокоить, – в противном случае воспоследуют скандал, развод, Докторс-коммонс.
Впрочем, и мистер Уэихем, и лорд Стайн, и Родон прежде всего заботились о том,
чтобы удалить Бекки из Англии и замять это крайне неприятное дело.
Должно
быть, Бекки была так занята улаживанием деловых вопросов с поверенными мужа,
что забыла предпринять какие-либо шаги относительно своего сына, маленького
Родона, и даже ни разу не выразила желания повидать его. Юный джентльмен был
оставлен на полное попечение дяди и тетки, которая всегда пользовалась большой
любовью мальчика. Его мать, покинув Англию, написала ему очень милое письмо из
Булони, в котором советовала ему хорошо учиться и сообщала, что уезжает в
путешествие на континент и будет иметь удовольствие написать ему еще. Но
написала она только через год, да и то лишь потому, что единственный сын сэра
Питта, болезненный ребенок, умер от коклюша и кори. Тут мамаша Родона отправила
чрезвычайно нежное послание дорогому сыночку, который после смерти своего
кузена оказался наследником Королевского Кроули и стал еще ближе и дороже для
доброй леди Джейн, чье нежное сердце уже до того усыновило племянника. Родон
Кроули, превратившийся теперь в высокого красивого мальчика, вспыхнул, получив
это письмо.
– Вы
моя мама, тетя Джейн, – воскликнул он, – а не… а не она! – Но
все-таки написал ласковое и почтительное письмо миссис Ребекке, жившей тогда в
дешевом пансионе во Флоренции.
Однако
мы забегаем вперед.
Для
начала наша милочка Бекки упорхнула не очень далеко. Она опустилась на французском
побережье в Булони, этом убежище многих невинных изгнанников из Англии, и там
вела довольно скромный вдовий образ жизни, обзаведясь fortune de chambre и
занимая две-три комнаты в гостинице. Обедала она за табльдотом, где ее считали
очень приятной женщиной и где она занимала соседей рассказами о своем брате,
сэре Питте, и знатных лондонских знакомых и болтала всякую светскую чепуху,
производящую столь сильное впечатление на людей неискушенных. Многие из них
полагали, что Бекки особа с весом; она устраивала маленькие сборища за чашкой
чая у себя в комнате и принимала участие в невинных развлечениях, которым
предавалась местная публика: в морских купаниях, катании в открытых колясках, в
прогулках по берегу моря и в посещении театра. Миссис Берджойс, супруга
типографа, поселившаяся со всем своим семейством на лето в гостинице, – ее
Берджойс приезжал к ней на субботу и воскресенье, – называла Бекки
очаровательной, пока этот негодяй Берджойс не вздумал приволокнуться за нею. Но
ничего особенного не произошло, – Бекки всегда бывала общительна, весела,
добродушна, в особенности с мужчинами.
В конце
сезона толпы англичан уезжали, как обычно, за границу, и Бекки, по поведению
своих знакомых из большого лондонского света, имела полную возможность
убедиться в том, какого мнения придерживается о ней «общество». Однажды,
скромно прогуливаясь по булонскому молу, в то время как утесы Альбиона сверкали
в отдалении за полосой глубокого синего моря, Бекки встретилась лицом к лицу с
леди Партлет и ее дочерьми. Леди Партлет мановением зонтика собрала всех своих
дочерей вокруг себя и удалилась с мола, метнув свирепый взгляд на бедную
маленькую Бекки, оставшуюся стоять в одиночестве.
Однажды
к ним прибыл пакетбот. Дул сильный ветер, а Бекки всегда доставляло удовольствие
смотреть на уморительные страдальческие лица вымотанных качкой пассажиров. В
этот день на пароходе оказалась леди Слингстоун. Ее милость весь переезд
промучилась в своей коляске и едва была в состоянии пройти по сходням с корабля
на пристань. Но едва она увидела Бекки, лукаво улыбавшуюся из-под розовой
шляпки, слабость ее как рукой сняло: бросив на Ребекку презрительный взгляд, от
которого съежилась бы любая женщина, леди проследовала в здание таможни без
всякой посторонней помощи. Бекки только рассмеялась, но не кажется мне, чтобы
она была довольна. Она почувствовала себя одинокой, очень одинокой, а сиявшие
вдали утесы Англии были для нее неодолимой преградой.
В
поведении мужчин тоже произошла какая-то трудно определимая перемена. Как-то
раз Гринстоун противно оскалил зубы и фамильярно расхохотался в лицо Бекки.
Маленький Боб Сосуноук, который три месяца тому назад был ее рабом и прошел бы
под дождем целую милю, чтобы отыскать ее карету в веренице экипажей, стоявших у
Гонт-Хауса, разговаривал однажды на набережной с гвардейцем Фицуфом (сыном
лорда Хихо), когда Бекки прогуливалась там. Маленький Бобби кивнул ей через
плечо, не снимая шляпы, и продолжал беседу с наследником Хихо. Том Рейке
попробовал войти в ее гостиную с сигарой в зубах, но Бекки захлопнула перед ним
дверь и, наверное, заперла бы ее, если бы только пальцы гостя не попали в щель.
Ребекка начинала чувствовать, что она в самом деле одна на свете. «Будь он
здесь, – думала она, – эти негодяи не «посмели бы оскорблять меня!»
Она думала о «нем» с большой грустью и, может, даже тосковала об его честной,
глупой, постоянной любви и верности, его неизменном послушании, его добродушии,
его храбрости и отваге. Очень может быть, что Бекки плакала, потому что она
была особенно оживлена, когда сошла вниз к обеду, и подрумянилась чуть больше
обычного.
Она
теперь постоянно румянилась, а… а ее горничная покупала для нее коньяк – сверх
того, который ей ставили в счет в гостинице.
Однако
еще тягостнее, чем оскорбления мужчин, было, пожалуй, для Бекки сочувствие некоторых
женщин. Миссис Кракенбери и миссис Вашингтон Уайт проезжали через Булонь по дороге
в Швейцарию. (Они ехали под охраной полковника Хорнера, молодого Бомори и,
конечно, старика Кракенберг и маленькой дочери миссис Уайт.) Эти дамы не
избегали Бекки. Они хихикали, кудахтали, болтали, соболезновали, утешали и
покровительствовали Бекки, пока не довели ее до бешенства. «Пользоваться их
покровительством!» – подумала она, когда дамы уходили, расцеловавшись с ней и
расточая улыбки. Она услышала хохот Бомори, доносившийся с лестницы, и отлично
поняла, как надо объяснить это веселье.
А после
этого визита Бекки, аккуратно, каждую недолю платившая по счетам гостиницы,
Бекки, старавшаяся быть приятной всем и каждому в доме, улыбавшаяся хозяйке,
называвшая лакеев monsieur и расточавшая горничным вежливые слова и извинения,
чем сторицей искупалась некоторая скупость в отношении денег (от которой Бекки
никогда не была свободна), – Бекки, повторяю, получила от хозяина
извещение с просьбой покинуть гостиницу. Кто-то сообщил ему, что миссис Кроули
совершенно неподходящая особа для проживания у него в доме; английские леди не
пожелают сидеть с нею за одним столом. И Бекки пришлось переселиться на частную
квартиру, где скука и одиночество действовали на нее удручающе.
Все же,
несмотря на эти щелчки, Бекки держалась, пробовала создать себе хорошую репутацию
вопреки всем сплетням. Она не пропускала ни одной службы в церкви и пела там
Громче всех; она заботилась о вдовах погибших рыбаков, жертвовала рукоделия и
рисунки для миссии в Квошибу; она участвовала в подписках на благотворительные
балы, но сама никогда не вальсировала, – словом, вела себя в высшей
степени пристойно; и потому-то мы останавливаемся на этой поре ее жизни с
большим удовольствием, чем на последующих, менее приятных эпизодах. Она видела,
что люди ее избегают, и все-таки усердно улыбалась им; глядя на нее, вы никогда
бы не догадались, какие муки унижения она испытывает.
Ее
история так и осталась загадкой. Люди отзывались о ней по-разному. Одни,
взявшие на себя труд заняться этим вопросом, говорили, что Бекки преступница;
между тем как другие клялись, что она невинна, как агнец, а во всем виноват ее
гнусный супруг. Многих она покорила тем, что ударялась в слезы, говоря о своем
сыне, и изображала бурную печаль, когда упоминалось его имя или когда она
встречала кого-нибудь похожего на него. Именно так она пленила сердце доброй
миссис Олдерни, которая была королевой британской Булони и чаще всех задавала
обеды и балы: Ребекка расплакалась, когда маленький Олдерни приехал из учебного
заведения доктора Порки провести каникулы у матери.
– Ведь
они с Родоном одного возраста и так похожи! – произнесла Бекки голосом,
прерывающимся от муки.
В
действительности между мальчиками была разница в пять лет и они были похожи
друг на друга не больше, чем уважаемый читатель похож на вашего покорного
слугу! Уэнхем, проезжая через Францию по пути в Киссинген, где он должен был
встретиться с лордом Стайном, просветил миссис Олдерни на этот счет и заверил
ее, что он может описать маленького Родона гораздо лучше, чем его мамаша,
которая его терпеть не может и никогда не навещает; что мальчику тринадцать
лет, тогда как маленькому Олдерни только восемь; он белокур, между тем как ее
милый мальчуган темноволос, – словом, заставил почтенную даму пожалеть о своей
доброте.
Стоило
Бекки ценою невероятных трудов и усилий создать вокруг себя небольшой кружок,
как кто-нибудь появлялся и грубо разрушал его, так что ей приходилось начинать
все сначала. Ей было очень тяжело… очень тяжело… одиноко и тоскливо.
На
некоторое время ее пригрела некая миссис Ньюбрайт, плененная сладостным пением
Бекки в церкви и ее правоверными взглядами на разные серьезные вопросы, –
миссис Бекки очень навострилась на них в былые дни в Королевском Кроули. Так
вот: она не только брала брошюрки, но и читала их; она шила фланелевые юбки для
Квошибу и коленкоровые ночные колпаки для индейцев с Кокосовых островов;
раскрашивала веера в интересах обращения в истинную веру римского папы и
евреев; заседала под председательством мистера Раулса по вторникам и мистера
Хаглтона по четвергам; посещала воскресные богослужения дважды в день, а, кроме
того, по вечерам ходила слушать мистера Боулера, дарбиита, – и все
напрасно. Миссис Ньюбрайт пришлось как-то вступить в переписку с графиней
Саутдаун по вопросу о «Фонде для покупки грелок обитателям островов Фиджи» (обе
леди были членами дамского комитета, управляющего делами этого прекрасного
благотворительного общества), и так как она упомянула о «милом своем друге»
миссис Родон Кроули, то вдовствующая графиня написала ей такое письмо о Бекки,
с такими подробностями, намеками, фактами, выдумками и пожеланиями, что с той
поры всякой близости между миссис Ньюбрайт и миссис Кроули настал Конец. И все
серьезные люди в Туре, где произошло это несчастье, немедленно перестали
знаться с отверженной. Те, кто знаком с колониями англичан за границей, знают,
что мы возим с собой свою гордость, свои пилюли, свои предрассудки, харвейскую
сою, кайенский перец и других домашних богов, создавая маленькую Британию
всюду, где мы только устраиваемся на жительство.
Бекки с
тяжелым сердцем кочевала из одной колонии в другую: из Булони в Дьепп, из
Дьеппа в Кан, из Кана в Тур, всячески стараясь быть респектабельной, но –
увы! – в один прекрасный день ее непременно узнавали какие-нибудь настоящие
галки и долбили клювами, пока не выгоняли вон из клетки.
Однажды
в ней приняла участие миссис Хук Иглз – женщина безупречной репутации, имевшая
дом на Портмен-сквер. Она проживала в гостинице в Дьеппе, куда бежала Бекки, и
они познакомились сперва у моря, где вместе купались, а потом в гостинице за
табльдотом. Миссис Иглз слыхала – да и кто не слыхал? – кое-что о
скандальной истории со Стайном, но после беседы с Бекки заявила, что миссис
Кроули – ангел, супруг ее – злодей, а лорд Стайн – человек без чести и совести,
что, впрочем, всем известно, и весь шум, поднятый против миссис Кроули, результат
позорного злокозненного заговора, устроенного этим мерзавцем Уэнхемом.
– Если
бы у вас, мистер Иглз, была хоть капля мужества, вы должны были бы надавать этому
негодяю пощечин в первый же раз, как встретитесь с ним в клубе, – заявила
она своему супругу. Но Иглз был всего лишь тихим старым джентльменом, супругом
миссис Иглз, любившим геологию и не обладавшим достаточно высоким ростом, чтобы
дотянуться до чьих-либо щек.
И вот
миссис Иглз стала покровительствовать миссис Родон, пригласила ее погостить в
ее собственном доме в Париже, поссорилась с женой посла, не пожелавшей
принимать у себя ее protegee, и делала все, что только во власти женщины, чтобы
удержать Бекки на стезе добродетели и сберечь ее доброе имя.
Сперва
Бекки вела себя примерно, но вскоре ей осточертела эта респектабельная жизнь.
Каждый день был похож на другой – тот же опостылевший комфорт, то же катание по
дурацкому Булонскому лесу, то же общество по вечерам, та же самая проповедь
Блейра в воскресенье – словом, та же онера, неизменно повторявшаяся. Бекки
изнывала от скуки. Но тут, к счастью для нее, приехал из Кембриджа молодой
мистер Иглз, и мать, увидев, какое впечатление произвела на него ее маленькая
приятельница, тотчас выставила Бекки за дверь.
Тогда
Бекки попробовала жить своим домом вместе с одной подругой, но этот двойной
menage[166]
привел к ссоре и закончился долгами. Тогда она решила перейти в пансион и некоторое
время жила в знаменитом заведении мадам де Сент-Амур на Рю-Рояль в Париже, где
и начала пробовать свои чары на потрепанных франтах и сомнительного поведения
красавицах, посещавших салоны ее хозяйки. Бекки любила общество, положительно
не могла без него существовать, как курильщик опиума не может обходиться без
своего зелья, и в пансионе ей жилось неплохо.
– Здешние
женщины так же забавны, как и в Мэйфэре, – говорила она одному старому
лондонскому знакомому, которого случайно встретила, – только платья у них
не такие свежие. Мужчины носят чищеные перчатки и, конечно, страшные жулики, но
не хуже Джека такого-то и Тома такого-то. Хозяйка пансиона несколько вульгарна,
но не думаю, чтобы она была так вульгарна, как леди… – И тут она назвала
имя одной модной львицы, но я скорее умру, чем открою его! Увидев как-нибудь
вечером освещенные комнаты мадам де Сент-Амур, мужчин с орденами и лентами за
столиками для игры в экарте и дам в некотором отдалении, вы и в самом деле
могли бы на мгновение подумать, что находитесь в хорошем обществе и что мадам –
настоящая графиня. Многие так и думали, и Бекки некоторое время была одной из
самых блестящих дам в салонах графини.
Но, по
всей вероятности, старые кредиторы времен 1815 года отыскали ее и заставили покинуть
Париж, потому что бедной маленькой женщине пришлось неожиданно бежать из французской
столицы, и тогда она переехала в Брюссель.
Как
хорошо она помнила этот город! С усмешкой взглянула она на низкие антресоли, которые
когда-то занимала, и в памяти ее возникло семейство Бейракрсов, как они хотели
бежать и отчаянно искали лошадей, а их карета стояла под воротами гостиницы.
Она побывала в Ватерлоо и в Лекене, где памятник Джорджу Осборну произвел на
нее сильное впечатление. Она сделала с него набросок.
– Бедный
Купидон! – сказала она. – Как сильно он был влюблен в меня и какой он
был дурак! Интересно, жива ли маленькая Эмилия? Славная была девочка. А этот
толстяк, ее брат? Изображение его жирной особы до сих пор хранится где-то у
меня среди бумаг. Это были простые, милые люди.
В
Брюссель Бекки приехала с рекомендательным письмом от мадам де Сент-Амур к ее
приятельнице, мадам графине де Бородино, вдове наполеоновского генерала,
знаменитого графа де Бородино, оставшейся после кончины этого героя без всяких
средств, кроме тех, которые давал ей табльдот и стол для игры в экарте.
Второсортные денди и roues[167],
вдовы, вечно запятые какими-то тяжбами, и простоватые англичане, воображавшие,
что встречают в таких домах «континентальное общество», играли или питались за
столами мадам де Бородино. Галантные молодые люди угощали общество шампанским,
ездили кататься верхом с женщинами или нанимали лошадей для загородных
экскурсий, покупали сообща ложи в театр или в оперу, делали ставки, нагибаясь
через прелестные плечи дам во время игры в экарте, и писали родителям в Девоншир,
что вращаются за границей в самом лучшем обществе.
Здесь,
как и в Париже, Бекки была королевой узкого пансионского мирка. Она никогда не
отказывалась ни от шампанского, ни от букетов, ни от поездки за город, ни от
места в ложе, но всему предпочитала экарте по вечерам – и играла очень смело.
Сперва она играла только по маленькой, потом на пятифранковики, потом на
наполеондоры, потом на кредитные билеты; потом не могла оплатить месячного
счета в пансионе, потом стала занимать деньги у юных джентльменов, потом опять
обзавелась деньгами и стала помыкать мадам де Бородино, перед которой раньше
лебезила и угодничала, потом играла по десять су ставка и впала в жестокую
нищету; потом подоспело ее содержание за четверть года, и она расплатилась по
счету с мадам де Бородино и опять начала ставить против мосье де Россиньоля или
шевалье де Раффа.
С
прискорбием нужно сознаться, что Бекки, покидая Брюссель, осталась должна мадам
де Бородино за трехмесячное пребывание в пансионе. Об этом обстоятельстве, а
также о том, как она играла, пила, как стояла на коленях перед преподобным
мистером Маффом, англиканским священником, вымаливая у него деньги, как
любезничала с милордом Нудлем, сыном сэра Нудля, учеником преподобного мистера
Маффа, которого частенько приглашала к себе в комнату и у которого выигрывала
крупные суммы в экарте, – об этом, как и о сотне других ее низостей,
графиня де Бородино осведомляет всех англичан, останавливающихся в ее
заведении, присовокупляя, что мадам Родон была просто-напросто une vipere[168].
Так наша
маленькая скиталица раскидывала свой шатер в различных городах Европы, не ведая
покоя, как Улисс или Бемфилд Мур Кэрью. Ее вкус к беспорядочной жизни
становился все более заметным. Скоро она превратилась в настоящую цыганку и
стала знаться с людьми, при встрече с которыми у вас волосы встали бы дыбом.
В Европе
нет сколько-нибудь крупного города, в котором не было бы маленькой колонии
английских проходимцев – людей, чьи имена мистер Хемп, судебный исполнитель,
время от времени оглашает в камере шерифа, – молодых джентльменов, часто
сыновей весьма почтенных родителей (только эти последние не желают их знать),
завсегдатаев бильярдных зал и кофеен, покровителей скачек и игорных столов. Они
населяют долговые тюрьмы, они пьянствуют и шумят, они дерутся и бесчинствуют,
они удирают, не заплатив по счетам, вызывают на дуэль французских и немецких
офицеров, обыгрывают мистера Спуни в экарте, раздобывают деньги и уезжают в
Баден в великолепных бричках, пускают в ход непогрешимую систему отыгрышей и
шныряют вокруг столов с пустыми карманами – обтрепанные драчуны, нищие
франты, – пока не надуют какого-нибудь еврея-банкира, выдав ему фальшивый
вексель, или не найдут какого-нибудь нового мистера Спуни, чтобы ограбить его.
Забавно наблюдать смену роскоши и нищеты, в которой проходит жизнь этих людей.
Должно быть, она полна сильных ощущений. Бекки – признаться ли в этом? –
вела такую жизнь, и вела ее не без удовольствия. Она переезжала с этими
бродягами из города в город. Удачливую миссис Родон знали за каждым игорным
столом в Германии. Во Флоренции она жила на квартире вместе с мадам де
Крюшкассе. Говорят, ей предписано было выехать из Мюнхена. А мой друг, мистер
Фредерик Пижон, утверждает, что в ее доме в Лозане его опоили за ужином и
обыграли на восемьсот фунтов майор Лодер и достопочтенный мистер Дьюсэйс. Как
видите, мы вынуждены слегка коснуться биографии Бекки; но об этой поре ее
жизни, пожалуй, чем меньше будет сказано, тем лучше.
Говорят,
что, когда миссис Кроули переживала полосу особого невезения, она давала кое-где
концерты и уроки музыки. Какая-то мадам де Родон действительно выступала в
Вильдбаде на matinee musicale[169],
причем ей аккомпанировал герр Шпоф, первый пианист господаря Валахского; а мой
маленький друг, мистер Ивз, который знает всех и каждого и путешествовал повсюду,
рассказывал, что в бытность его в Страсбурге в 1830 году некая madame Rebecque[170] пела
в опере «La Dame Blanche» и вызвала ужаснейший скандал в местном театре.
Публика освистала ее и прогнала со сцены, отчасти за никудышное исполнение, но
главным образом из-за проявлений неуместной симпатии со стороны некоторых лиц,
сидевших в партере (туда допускались гарнизонные офицеры); Ивз уверяет, что эта
несчастная debutante[171]
была не кто иная, как миссис Родон Кроули.
Да, она
была просто бродягой, скитавшейся по лицу земли. Когда она получала от мужа
деньги, она играла, а проигравшись, все же не умирала с голоду. Кто скажет, как
ей это удавалось? Передают, что однажды ее видели в Санкт-Петербурге, но из
этой столицы ее ускоренным порядком выслала полиция, так что совсем уже нельзя
верить слухам, будто она потом была русской шпионкой в Теплице и в Вене. Мне
даже сообщали, что в Париже Бекки отыскала родственницу, не более и не менее
как свою бабушку с материнской стороны, причем та оказалась вовсе не Монморанси,
а безобразной старухой, капельдинершей при каком-то театре на одном из
бульваров. Свидание их, о котором, как видно из дальнейшего, знали и другие
лица, было, вероятно, очень трогательным. Автор настоящей повести не может
сказать о нем ничего достоверного.
Как-то в
Риме случилось, что миссис де Родон только что перевели ее полугодовое содержание
через одного из главных тамошних банкиров, а так как каждый, у кого оказывалось
на счету свыше пятисот скуди, приглашался на балы, которые этот финансовый туз устраивал
в течение зимнего сезона, то Бекки удостоилась пригласительного билета и
появилась на одном из званых вечеров князя и княгини Полониа. Княгиня
происходила из семьи Помпилиев, ведших свой род по прямой линии от второго царя
Рима и Эгерии из дома Олимпийцев, а дедушка князя, Алессандро Полониа, торговал
мылом, эссенциями, табаком и платками, был на побегушках у разных господ и
помаленьку ссужал деньги под проценты. Все лучшее общество Рима толпилось в
гостиных банкира – князья, герцоги, послы, художники, музыканты, монсеньеры,
юные путешественники со своими гувернерами – люди всех чинов и званий. Залы
были залиты светом, блистали золочеными рамами (с картинами) и сомнительными
антиками. А огромный позолоченный герб хозяина – золотой гриб на пунцовом поле
(цвет платков, которыми торговал его дедушка) и серебряный фонтан рода
Помпилиев – сверкал на всех потолках, дверях и стенах дома и на огромных
бархатных балдахинах, готовых к приему пап и императоров.
И вот
Бекки, приехавшая из Флоренции в дилижансе и остановившаяся в очень скромных
номерах, получила приглашение на званый вечер у князя Полониа. Горничная
нарядила ее старательнее обычного, и Ребекка отправилась на бал, опираясь на
руку майора Лодера, с которым ей привелось путешествовать в то время. (Это был
тот самый Лодер, который на следующий год застрелил в Неаполе князя Раволи и
которого сэр Джон Бакскин избил тростью за то, что у него в шляпе оказалось еще
четыре короля, кроме тех, которыми он играл в экарте.) Они вместе вошли в зал,
и Бекки увидела там немало знакомых лиц, которые помнила по более счастливому
времени, когда была хотя и не невинна, но еще не поймана. Майора Лодера
приветствовали многие иностранцы – бородатые востроглазые господа с грязными
полосатыми орденскими ленточками в петлицах и весьма слабыми признаками белья.
Но соотечественники майора явно избегали его. У Бекки тоже нашлись знакомые
среди дам – вдовы-француженки, сомнительные итальянские графини, с которыми
жестоко обращались их мужья… Фуй! стоит ли нам говорить об этих отбросах и
подонках, – нам, вращавшимся на Ярмарке Тщеславия среди самого блестящего
общества! Если уж играть, так играть чистыми картами, а не этой грязной
колодой. Но всякий входивший в состав бесчисленной армии путешественников видал
таких мародеров, которые, примазываясь, подобно Ниму и Пистолю, к главным
силам, носят мундир короля, хвастаются купленными чинами, но грабят в свою
пользу и иногда попадают на виселицу где-нибудь у большой дороги.
Итак,
Бекки под руку с майором Лодером прошлась по комнатам, выпила вместе с ним
большое количество шампанского у буфета, где гости, а в особенности
иррегулярные войска майора, буквально дрались из-за угощения, а затем, изрядно
подкрепившись, двинулась дальше и дошла до гостиной самой княгини в конце
анфилады (там, где статуя Венеры и большие венецианские зеркала в серебряных
рамах). В этой комнате, обтянутой розовым бархатом, стоял круглый стол, и здесь
княжеское семейство угощало ужином самых именитых гостей. Бекки вспомнилось,
как она в таком же избранном обществе ужинали у лорда Стайна… И вот он сидит за
столом у Полониа, и она увидела его.
На его
белом, лысом, блестящем лбу алел шрам от раны, нанесенной брильянтом; рыжие
бакенбарды были перекрашены и отливали пурпуром, отчего его бледное лицо
казалось еще бледнее. На нем была цепь и ордена, среди них орден Подвязки на
голубой ленте. Из всех присутствовавших он был самым знатным, хотя за столом
находились и владетельный герцог, и какое-то королевское высочество, –
каждый со своими принцессами; рядом с милордом восседала красавица графиня
Белладонна, урожденная де Гландье, супруг которой (граф Паоло делла Белладонна),
известный обладатель замечательных энтомологических коллекций, уже давно находился
в отсутствии, будучи послан с какой-то миссией к императору Марокко.
Когда
Бекки увидела его знакомое и столь прославленное лицо, каким вульгарным показался
ей майор Лодер и как запахло табаком от противного капитана Рука! Мгновенно в
ней встрепенулась светская леди, и она попыталась и выглядеть и держать себя
так, точно снова очутилась в Мэйфэре. «У этой женщины вид глупый и злой, –
подумала она, – я уверена, что она не умеет развлечь его. Да, она, должно
быть, ему страшно наскучила; со мной он никогда не скучал».
Много
таких трогательных надежд, опасений и воспоминаний трепетало в ее сердечке, когда
она смотрела на прославленного вельможу своими блестящими глазами (они блестели
еще больше от румян, которыми она покрывала себе лицо до самых ресниц). Надевая
на парадный прием орден Звезды и Подвязки, лорд Стайн принимал также особо
величественный вид и смотрел на всех и говорил с важностью могущественного
владыки, каковым он и был. Бекки залюбовалась его снисходительной улыбкой, его
непринужденными, но утонченными манерами. Ах, bon Dieu, каким он был приятным
собеседником, как он блестящ и остроумен, как много знает, как прекрасно
держится! И она променяла все это на майора Лодера, провонявшего сигарами и
коньяком, на капитана Рука, с его кучерскими шуточками и боксерским жаргоном, и
на других, им подобных!
«Интересно,
узнает ли он меня!» – подумала она. Лорд Стайн, улыбаясь, беседовал с какой-то
знатной дамой, сидевшей рядом с ним, и вдруг, подняв взор, увидел Бекки.
Она
страшно смутилась, встретившись с ним глазами, изобразила на своем лице самую
очаровательную улыбку, на какую была способна, и сделала его милости скромный,
жалобный реверансик. С минуту лорд Стайн взирал на нее с таким же ужасом,
какой, вероятно, охватил Макбета, когда на его званом ужине появился дух Банко;
раскрыв рот, он смотрел на нее до тех пор, пока этот отвратительный майор Лодер
не потянул ее за собою из гостиной.
– Пройдемтесь-ка
в залу, где ужинают, миссис Ребекка, – заметил этот джентльмен. – Мне
тоже захотелось пожрать, когда я увидел, как лопают эти аристократишки. Надо
отведать хозяйского шампанского.
Бекки
подумала, что майор уже и без того выпил более чем достаточно.
На
другой день она отправилась гулять в Монте-Пинчо – этот Хайд-парк римских фланеров, –
быть может, в надежде еще раз увидеть лорда Стайна. Но она встретилась там с
другим своим знакомым: это был мистер Фич, доверенное лицо его милости. Он
подошел к Бекки, кивнул ей довольно фамильярно и дотронувшись одним пальцем до
шляпы.
– Я
знал, что мадам здесь, – сказал он. – Я шел за вами от вашей
гостиницы. Мне нужно дать вам совет.
– От
маркиза Стайна? – спросила Бекки, собрав все остатки собственного
достоинства и замирая от надежды и ожидания.
– Нет, –
сказал камердинер, – от меня лично. Рим очень нездоровое место.
– Не
в это время года, мосье Фич, только после пасхи.
– А
я заверяю, мадам, что и сейчас. Здесь многие постоянно болеют малярией.
Проклятый ветер с болот убивает людей во все времена года. Слушайте, мадам
Кроули, вы всегда были bon enfant[172],
и я вам желаю добра, parole d'honneur[173].
Берегитесь! Говорю вам, уезжайте из Рима, иначе вы заболеете и умрете.
Бекки
расхохоталась, хотя в душе ее клокотала ярость.
– Как!
Меня, бедняжку, убьют? – сказала она. – Как это романтично! Неужели
милорд возит с собой наемных убийц, вместо проводников, и держит про запас
стилеты? Чепуха! Я не уеду, хотя бы ему назло. Здесь есть кому меня защитить.
Теперь
расхохотался мосье Фич.
– Защитить? –
проговорил он. – Кто это вас будет защищать? Майор, капитан, любой из этих
игроков, которых мадам видает здесь, лишат ее жизни за сто луидоров. О майоре
Лодере (он такой же майор, как я – милорд маркиз) нам известны такие вещи, за
которые он может угодить на каторгу, а то и подальше! Мы знаем все, и у нас
друзья повсюду. Мы знаем, кого вы видели в Париже и каких родственниц нашли
там. Да, да, мадам может смотреть на меня сколько угодно, но это так! Почему,
например, ни один наш посланник в Европе не принимает мадам у себя? Она
оскорбила кое-кого, кто никогда не прощает, чей гнев еще распалился, когда он
увидел вас. Он просто с ума сходил вчера вечером, когда вернулся домой. Мадам
де Белладонна устроила ему сцену из-за вас, рвала и метала так, что сохрани
боже!
– Ах,
так это происки мадам де Белладонна! – заметила Бекки с некоторым
облегчением, потому что слова Фича сильно ее напугали.
– Нет,
она тут ни при чем, она всегда ревнует. Уверяю вас, это сам монсеньер. Напрасно
вы попались ему на глаза. И если вы останетесь в Риме, то пожалеете. Запомните
мои слова. Уезжайте! Вот экипаж милорда, – и, схватив Бекки за руку, он
быстро увлек ее в боковую аллею. Коляска лорда Стайна, запряженная бесценными
лошадьми, мчалась по широкой дороге, сверкая гербами; развалясь на подушках, в
ней сидела мадам де Белладонна, черноволосая, цветущая, надутая, с болонкой на
коленях и белым зонтиком над головой, а рядом с нею – старый маркиз, мертвенно-бледный,
с пустыми глазами. Ненависть, гнев, страсть иной раз еще заставляли их
загораться, но обычно они были тусклы и, казалось, устали смотреть на мир, в
котором для истаскавшегося, порочного старика уже почти не оставалось ни
красоты, ни удовольствий.
– Монсеньер
так и не оправился после потрясений той ночи, – шепнул мосье Фич, когда
коляска промчалась мимо и Бекки выглянула вслед из-за кустов, скрывавших ее.
«Хоть
это-то утешение!» – подумала Бекки.
Действительно
ли милорд питал такие кровожадные замыслы насчет миссис Бекки, как говорил ей
мосье Фич (после кончины монсеньера он вернулся к себе на родину, где и жил,
окруженный большим почетом, купив у своего государя титул барона Фиччи), но его
фактотуму не захотелось иметь дело с убийцами, или же ему просто было поручено
напугать миссис Кроули и удалить ее из города, в котором его милость
предполагал провести зиму и где лицезрение Бекки было бы ему в высшей степени
неприятно, – это вопрос, который так и не удалось разрешить. Но угроза
возымела действие, и маленькая женщина не пыталась больше навязываться своему
прежнему покровителю.
Все
читали о грустной кончине этого вельможи, происшедшей в Неаполе; спустя два месяца
после французской революции 1830 года достопочтенный Джордж Густав, Маркиз
Стайн, Граф Гонт из Гонт-Касла, Пэр Ирландии, Виконт Хелборо, Барон Пичли и
Грилсби, Кавалер высокоблагородного ордена Подвязки, испанского ордена Золотого
Руна, русского ордена Святого Николая первой степени, турецкого ордена
Полумесяца, Первый Лорд Пудреной Комнаты и Грум Черной Лестницы, Полковник
Гонтского, или Собственного его высочества регента, полка милиции, Попечитель
Британского музея, Старший брат гильдии Святой Троицы, Попечитель колледжа
Уайтфрайерс и Доктор гражданского права скончался после ряда ударов, вызванных,
по словам газет, потрясением, каким явилось для чувствительной души милорда
падение древней французской монархии.
В одной
еженедельной газете появился красноречивый перечень добродетелей маркиза, его
щедрот, его талантов, его добрых дел. Его чувствительность, его приверженность
славному делу Бурбонов, на родство с которыми он притязал, были таковы, что он
не мог пережить несчастий своих августейших родичей. Тело его похоронили в
Неаполе, а сердце – то сердце, что всегда волновали чувства возвышенные и
благородные, – отвезли в серебряной урне в Гонт-Касл.
– В
лице маркиза, – говорил мистер Уэг, – бедняки и изящные искусства
потеряли благодетеля и покровителя, общество – одно из самых блестящих своих
украшений, Англия – одного из величайших патриотов и государственных деятелей,
и так далее, и так далее.
Его
завещание долго и энергично оспаривалось, причем делались попытки заставить
мадам де Белладонна вернуть знаменитый брильянт, называвшийся «Глаз иудея»,
который его светлость всегда носил на указательном пальце и который упомянутая
дама якобы сняла с этого пальца после безвременной кончины маркиза. Но его
доверенный друг и слуга мосье Фич доказал, что кольцо было подарено упомянутой
мадам де Белладонна за два дня до смерти маркиза, точно так же, как и банковые
билеты, драгоценности, неаполитанские и французские процентные бумаги и
т. д., обнаруженные в секретере его светлости и значившиеся в иске,
вчиненном его наследниками этой безвинно опороченной женщине.
|


