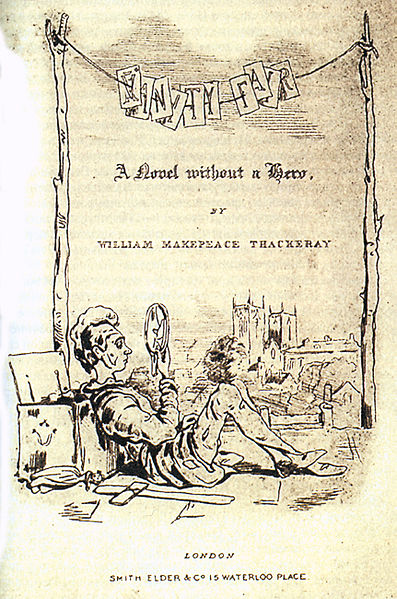
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА ХLI,
в которой Бекки
вновь посещает замок предков
Когда
траурное платье было готово и сэр Питт Кроули извещен о приезде брата,
полковник Кроули с женой взяли два места в той самой старой карете, в которой
Ребекка ехала с покойным баронетом, когда девять лет назад впервые пустилась в
свет. Как ясно помнился ей постоялый двор и слуга, которому она не дала на чан,
и вкрадчивый кембриджский студент, который укутал ее тогда своим плащом! Родон
занял наружное место и с удовольствием взялся бы править, но этого не позволял
траур. Он вознаградил себя тем, что сел рядом с кучером и все время беседовал с
ним о лошадях, о состоянии дороги, о содержателях постоялых дворов и лошадей
для кареты, в которой он так часто ездил, когда они с Питтом были детьми и
учились в Итоне. В Мадбери их ожидал экипаж с парой лошадей и кучером в трауре.
– Это
тот же самый старый рыдван, Родон, – заметила Ребекка, садясь в
экипаж. – Обивка сильно источена молью… а вот и пятно, из-за которого сэр
Питт (ага! – железоторговец Досон закрыл свое заведение)… из-за которого,
помнишь, сэр Питт поднял такой скандал. А ведь это он сам разбил бутылку
вишневки, за которой мы ездили в Саутгемптон для твоей тетушки. Как время-то
летит! Неужели это Полли Толбойс, – та рослая девушка, видишь, что стоит у
ворот вместе с матерью? Я помню ее маленьким невзрачным сорванцом, она, бывало,
полола дорожки в саду.
– Славная
девушка! – сказал Родон, приложив два пальца к полоске крепа на шляпе в
ответ на приветствия из коттеджа. Бекки ласково кланялась и улыбалась, узнавая
то тут, то там знакомые лица. Эти встречи и приветствия были ей невыразимо
приятны: ей казалось, что она уже не самозванка, а по праву возвращается в дом
своих предков. Родон, напротив, притих и казался подавленным. Какие
воспоминания о детстве и детской невинности проносились у него в голове? Какие
смутные упреки, сомнения и стыд его тревожили?
– Твои
сестры уже, должно быть, взрослые барышни, – сказала Ребекка, пожалуй,
впервые вспомнив о девочках с тех пор, как рассталась с ними.
– Не
знаю, право, – ответил полковник. – Эге, вот и старая матушка Лок!
Как поживаете, миссис Лок? Вы, верно, помните меня? Мистер Родон, э? Черт
возьми, как эти старухи живучи! Ей уже тогда лет сто было, когда я был
мальчишкой.
Они как
раз въезжали в ворота парка, которые сторожила старая миссис Лок. Ребекка
непременно захотела пожать ей руку, когда та открыла им скрипучие железные
ворота и экипаж проехал между двумя столбами, обросшими мхом и увенчанными
змеей и голубкой.
– Отец
изрядно вырубил парк, – сказал Родон, озираясь по сторонам, и надолго
замолчал; замолчала и Бекки. Оба были несколько взволнованы и думали о прошлом.
Он – об Итоне, о матери, которую помнил сдержанной, печальной женщиной, и об
умершей сестре, которую страстно любил; о том, как он колачивал Питта, и о
маленьком Роди, оставленном дома. А Ребекка думала о собственной юности, о
ревниво оберегаемых тайнах тех рано омраченных дней, о первом вступлении в
жизнь через эти самые ворота, о мисс Пинкертон, о Джозе и Эмилии.
Посыпанная
гравием аллея и терраса теперь содержались чисто. Над главным подъездом повешен
был большой, писанный красками траурный герб, и две весьма торжественные и высокие
фигуры в черном широко распахнули обе половинки дверей, едва экипаж остановился
у знакомых ступенек. Родон покраснел, а Бекки немного побледнела, когда они под
руку проходили через старинные сени. Бекки стиснула руку мужа, входя в дубовую
гостиную, где их встретили сэр Питт с женой. Сэр Питт был весь в черном, леди
Джейн тоже в черном, а миледи Саутдаун в огромном черном головном уборе из
стекляруса и перьев, которые развевались над головою ее милости, словно
балдахин над катафалком.
Сэр Питт
был прав, утверждая, что она не уедет. Она довольствовалась тем, что хранила
гробовое молчание в обществе Питта и его бунтовщицы-жены и пугала детей в
детской зловещей мрачностью своего обращения. Только очень слабый кивок
головного убора и перьев приветствовал Родона и его жену, когда эти блудные
дети вернулись в лоно семьи.
Сказать
по правде, эта холодность не слишком их огорчила; в ту минуту ее милость была
для них особою второстепенного значения, больше всего они были озабочены тем,
какой прием им окажут царствующий брат и невестка. Питт, слегка покраснев,
выступил вперед и пожал брату руку, потом приветствовал Ребекку рукопожатием и
очень низким поклоном. Но леди Джейн схватила обе руки невестки и нежно ее
поцеловала. Такой прием вызвал слезы на глазах нашей маленькой авантюристки,
хотя она, как мы знаем, очень редко носила это украшение. Безыскусственная
доброта и доверие леди Джейн тронули и обрадовали Ребекку; а Родон, ободренный
этим проявлением чувств со стороны невестки, закрутил усы и просил разрешения
приветствовать леди Джейн поцелуем, отчего ее милость залилась румянцем.
– Чертовски
миленькая женщина эта леди Джейн, – таков был его отзыв, когда он остался
наедине с женой. – Питт растолстел, но держит себя хорошо.
– Тем
более, что это ему недорого стоит, – заметила Ребекка и согласилась с
замечанием мужа, что «теща – старое пугало, а сестры – довольно миловидные
девушки».
Они обе
были вызваны из школы, чтобы присутствовать на похоронах. По-видимому, сэр Питт
Кроули для поддержания достоинства дома и фамилии счел необходимым собрать как
можно больше народу, одетого в черное. Все слуги и служанки в доме, старухи из
богадельни, у которых сэр Питт-старший обманом удерживал большую часть того,
что им полагалось, семья псаломщика и все приближенные, как замка, так и
пасторского дома, облачились в траур; к ним следует еще прибавить десятка два
факельщиков с плерезами на рукавах и шляпах, – во время обряда погребения
они представляли внушительное зрелище. Но все это немые персонажи в пашей
драме, и так как им не предстоит ни действовать, ни говорить, то им и отведено
здесь очень мало места.
В
разговоре с золовками Ребекка не делала попыток забыть свое прежнее положение гувернантки,
а, напротив, добродушно и откровенно упоминала о нем, расспрашивала с большой
серьезностью об их занятиях и клялась, что всегда помнила своих маленьких
учениц и очень хотела узнать, как им живется. Можно было действительно
поверить, что, расставшись со своими воспитанницами, она только о них и думала.
Во всяком случае, ей удалось убедить в этом как самое леди Кроули, так и ее
молоденьких золовок.
– Она
ничуть не изменилась за эти восемь лет, – сказала мисс Розалинда своей
сестре мисс Вайолет, когда они одевались к обеду.
– Эти
рыжие женщины всегда выглядят удивительно молодо, – отвечала та.
– У
нее волосы гораздо темнее, чем были; наверно, она их красит, – прибавила
мисс Розалинда. – И вообще она пополнела и похорошела, – продолжала
мисс Розалинда, которая имела расположение к полноте.
– По
крайней мере, она не важничает и помнит, что когда-то была у нас
гувернанткой, – сказала мисс Вайолет, намекая на то, что все гувернантки
должны помнить свое место, и начисто забывая, что сама она была внучкою не
только сэра Уолпола Кроули, но и мистера Досона из Мадбери и таким образом
имела на щите своего герба ведерко с углем. На Ярмарке Тщеславия можно каждый
день встретить милейших людей, которые отличаются такой же короткой памятью.
– Наверно,
неправду говорят кузины, будто ее мать была танцовщицей.
– Человек
не виноват в своем происхождении, – отвечала Розалинда, обнаруживая редкое
свободомыслие. – И я согласна с братом, что, раз она вошла в нашу семью,
мы должны относиться к ней с уважением. А тетушке Бьют следовало бы помолчать:
сама она мечтает выдать Кэт за молодого Хупера, виноторговца, и велела ему
непременно самому приходить за заказами.
– Интересно,
уедет леди Саутдаун или нет? Она готова съесть миссис Родон, – заметила
Вайолет.
– Вот
было бы кстати: мне не пришлось бы читать «Прачку Финчлейской общины», – заявила
Розалинда. Беседуя таким образом и нарочно минуя коридор, в конце которого в
комнате с затворенными дверями стоял гроб, окруженный неугасимыми свечами и
охраняемый двумя плакальщиками, обе девицы спустились вниз к семейному столу,
куда их призывал обеденный колокол.
Леди Джейн
тем временем повела Ребекку в предназначенные для нее комнаты, которые, как и
весь остальной дом, приняли гораздо более нарядный и уютный вид с тех пор, как
Питт стал у кормила власти, и здесь, убедившись, что скромные чемоданы миссис
Родон принесены и поставлены в спальне и в смежном будуаре, помогла ей снять
изящную траурную шляпу и накидку и спросила, не может ли она еще чем-нибудь
быть ей полезна.
– Чего
мне хотелось бы больше всего, – сказала Ребекка, – это пойти в
детскую посмотреть ваших милых крошек.
Обе леди
очень ласково посмотрели друг на друга и рука об руку отправились в детскую.
Бекки
пришла в восторг от маленькой Матильды, которой не было еще четырех лет, и объявила
ее самой очаровательной малюткой на свете, а мальчика – двухлетнего малыша,
бледного, большеголового, с сонными глазами – она признала совершенным чудом по
росту, уму и красоте.
– Мне
хотелось бы, чтобы мама меньше пичкала его лекарствами, – со вздохом
заметила леди Джейн. – Я часто думаю, что без этого все мы были бы
здоровее.
Затем
леди Джейн и ее новообретенный друг вступили в одну из тех конфиденциальных
медицинских бесед о детях, к которым, как мне известно, питают пристрастие все
матери да и большинство женщин вообще. Пятьдесят лет назад, когда пишущий эти
строки был любознательным мальчиком, вынужденным после обеда удаляться из
столовой вместе с дамами, разговоры их, помнится, главным образом касались
всяких недугов. Недавно, беседуя об этом с двумя-тремя знакомыми дамами, я
пришел к убеждению, что времена ничуть не изменились. Пусть мои прекрасные
читательницы сами проверят это нынче же вечером, когда покинут после десерта
столовую и перейдут священнодействовать в гостиную. Итак, через полчаса Бекки и
леди Джейн сделались близкими друзьями, а вечером миледи сообщила сэру Питту,
что она считает свою новую невестку доброй, прямодушной, искренней и отзывчивой
молодой женщиной.
Завоевав,
таким образом, без большого труда расположение дочери, неутомимая маленькая
женщина взялась за величественную леди Саутдаун. Едва Ребекка очутилась наедине
с ее милостью, как засыпала ее вопросами о детской и сообщила, что ее
собственный мальчуган был спасен – буквально спасен! – неограниченными
приемами каломели, когда от дорогого малютки отказались все парижские врачи.
Тут же упомянула она о том, как часто ей приходилось слышать о леди Саутдаун от
превосходного человека, преподобного Лоренса Грилса, священника церкви в
Мэйфэре, которую она посещает; о том, как сильно ее взгляды изменились под
влиянием тяжелых обстоятельств и несчастий и как горячо она надеется, что ее
прошлая жизнь, потраченная на светские удовольствия и заблуждения, не помешает
ей подумать серьезно о жизни будущей. Она рассказала, сколь многим в прошлом
была обязана религиозным наставлениям мистера Кроули, коснулась попутно «Прачки
Финчлейской общины», которую прочла с огромной для себя пользой, и осведомилась
о леди Эмили, талантливой авторше этого произведения, ныне леди Эмили
Хорнблоуэр, проживавшей в Кейптауне, где ее супруг имел большие надежды
сделаться епископом Кафрарии.
Она
окончательно утвердилась в расположении леди Саутдаун, когда после похорон, почувствовав
себя расстроенной и больной, обратилась к ее милости за медицинским советом, и
вдовствующая леди не только дала этот совет, но самолично, в ночном одеянии и
более чем когда-либо похожая на леди Макбет, явилась в комнату Бекки с пачкой
излюбленных брошюр и с лекарством собственного приготовления, которое и
предложила своей пациентке выпить.
Бекки
сначала взялась за брошюры и, листая их с большим интересом, завела с вдовствующей
леди увлекательную беседу о содержании их и о спасении своей души, в тайной
надежде, что это избавит от врачевания ее тело. Но когда религиозные предметы
были исчерпаны, леди Макбет не покидала комнаты Бекки до тех пор, пока не была
опорожнена чаша с целебным питьем; и бедная миссис Родон должна была с видом
величайшей благодарности проглотить лекарство под бдительным оком неумолимой
старухи, которая только тогда решилась оставить свою жертву, благословив ее на
сон грядущий.
Это
благословение не очень-то утешило миссис Родон, и муж, войдя, нашел ее в
довольно жалком состоянии. Когда же Бекки с неподражаемым юмором – хотя на этот
раз она смеялась над собой – описала все происшествие, в котором она сделалась
жертвой леди Саутдаун, Родон, по своему обыкновению, разразился громким
хохотом. Лорд Стайн и сын леди Саутдаун в Лондоне тоже немало смеялись над этой
историей, ибо, когда Родон с женой вернулись в свой дом в Мэйфэре, Бекки
изобразила перед ними всю сцену в лицах. Нарядившись в ночной капот и чепец,
она произнесла с весьма серьезным видом длинную проповедь о достоинствах
лекарства, которое она заставляла принимать мнимую больную, и проявила при этом
такое бесподобное искусство подражания, что можно было думать, будто гнусавит
сама графиня.
– Покажите
нам леди Саутдаун с ее зельем! – восклицали гости в маленькой гостиной Бекки
в Мэйфэре. Впервые в своей жизни вдовствующая графиня Саутдаун служила поводом
для веселого оживления в обществе.
Сэр Питт
помнил те знаки почитания и уважения, которые Ребекка оказывала ему в прежние
дни, и потому был милостиво к ней расположен. Женитьба, хотя и необдуманная,
значительно исправила Родона, – это было видно из того, как изменились
привычки и поведение полковника, – и разве не был этот брачный союз удачею
для самого Питта? Хитрый дипломат посмеивался про себя, сознавая, что именно
оплошности брата он обязан своим богатством, и понимая, что у него меньше, чем
у кого бы то ни было, оснований ею возмущаться. Эту благожелательность только
укрепляли в нем поведение Ребекки, ее обращение и разговоры.
Она
удвоила свою почтительность, которая и раньше так очаровывала его и побуждала
проявлять ораторские способности, удивлявшие его самого, ибо, хотя он и всегда
был высокого мнения о своих талантах, славословия Ребекки еще укрепляли в нем
эту веру. Своей невестка Ребекка с полной убедительностью доказала, что миссис
Бьют Кроули сама устроила их брак, а потом сделала его предметом своего
злословия. Только жадность миссис Бьют, надеявшейся получить все состояние мисс
Кроули и лишить Родона расположения тетки, была причиною и источником всех
отвратительных сплетен, которые распускались про бедняжку Бекки.
– Она
добилась того, что мы сделались нищими, – говорила Ребекка с видом
ангельской кротости, – но как я могу сердиться на женщину, которая дала
мне одного из лучших на свете мужей? И разве ее собственная жадность не
оказалась достаточно наказанной крушенном всех ее надежд и потерей состояния,
на которое она так сильно рассчитывала? Мы бедны! – восклицала она. –
Ах, милая леди Джейн, что значит для нас бедность! Я с детства привыкла к ней и
часто думаю, как хорошо, что деньги мисс Кроули пошли на восстановление блеска
благородной семьи, быть членом которой для меня такая честь. Я уверена, что сэр
Питт употребит их куда лучше, чем Родон.
Конечно,
все эти разговоры преданная жена передавала сэру Питту, и это настолько усилило
приятное впечатление, произведенное Ребеккой, что на третий день после похорон,
когда семья собралась за обедом, сэр Питт Кроули, разрезавший кур, сидя во главе
стола, сказал, обращаясь к миссис Родон:
– Гм!
Ребекка, разрешите положить вам крылышко? – и при этом обращении глаза
маленькой женщины засверкали от удовольствия.
И все
время, пока Ребекка была увлечена своими мыслями и планами, а Питт Кроули занимался
приготовлениями к церемониалу похорон и устройством различных других дел,
связанных с его будущим величием и успехами; пока леди Джейн возилась в
детской, насколько ей позволяла мамаша, а солнце всходило и закатывалось и
колокол на башенных часах замка призывал, как обычно, к обеду и к
молитве, – тело умершего владельца Королевского Кроули покоилось в
комнате, которую он занимал при жизни, безотлучно охраняемое приглашенными для
этой цели профессиональными лицами. Несколько женщин, три-четыре служащих от гробовщика,
лучшие, каких только мог предоставить Саутгемптон, в полном трауре и с
приличествующей случаю бесшумной и скорбной повадкой, по очереди дежурили у
гроба, а после дежурства собирались в комнате экономки, где потихоньку играли в
карты и пили пиво.
Члены
семьи и слуги держались в стороне от мрачного места, где останки благородного
потомка древнего рода рыцарей и джентльменов дожидались последнего упокоения в
фамильном склепе. Никто не оплакивал его, кроме разве бедной женщины, которая
надеялась стать женой и вдовой сэра Питта и которая сбежала с позором из замка,
где едва не сделалась признанной правительницею. Кроме нее да еще старого
пойнтера, предмета нежной привязанности старика в пору его слабоумия, у сэра
Питта не было ни одного друга, который мог бы пожалеть о нем, ибо за всю свою
жизнь он не сделал ни малейшей попытки приобрести друзей. Если бы лучший и
добрейший из нас, покинув землю, мог снова навестить ее, я думаю, что он или
она (при условии, что какие-нибудь чувства, распространенные на Ярмарке
Тщеславия, существуют и в том мире, куда мы все направимся) испытали бы сильное
огорчение, убедившись, как скоро утешились оставшиеся в живых! Так и сэр Питт
был забыт, подобно добрейшим и лучшим из нас… только на несколько недель
раньше.
Те, кто
хочет, может последовать за останками умершего до самой могилы, куда они были
отнесены в назначенный день с подобающими почестями. Их сопровождали:
родственники в черных каретах, с носовыми платками, прижатыми к носу в ожидании
слез, которые так и не появлялись; гробовщик и его факельщики с глубокой
скорбью на лицах; избранные арендаторы с выражением подобострастного сочувствия
к новому владельцу по случаю понесенной им утраты; приходский священник с
неизменными словами «об отошедшем от нас дорогом брате». Траурный кортеж
замыкали кареты соседних дворян, тащившиеся со скоростью трех миль в час, пустые,
но внушавшие зрителям благоговейную печаль. Пока мы еще не расстались с телом
умершего, мы разыгрываем над ним комедию Тщеславия, обставляя ее богатой
бутафорией и пышными церемониями. Мы укладываем его в обитый бархатом гроб,
забиваем золочеными гвоздями и в довершение всего возлагаем на могилу камень с
лживой надписью. Помощник Бьюта, франтоватый молодой священник, окончивший
Оксфорд, и сэр Питт Кроули вместе составили подобающую латинскую эпитафию для
покойного баронета; франтоватый священник произнес классическую проповедь,
призывая оставшихся в живых не предаваться горю и предупреждая их в самых
почтительных выражениях, что в свое время и им предстоит пройти в мрачные и
таинственные врата, которые только что закрылись за останками их дорогого
брата. Затем арендаторы вскочили на коней, а часть осталась подкрепиться в
трактире «Герб Кроули». После завтрака, который был предложен кучерам в людской
замка, помещичьи экипажи разъехались по домам. Факельщики собрали веревки,
покров, бархат, страусовые перья и прочий реквизит, взгромоздились на катафалк
и укатили в Саутгемптон. И как только лошади, миновав ворота, пустились рысью
по большой дороге, лица факельщиков приняли обычное выражение, а вскоре стайки
их тут и там усеяли чернильными пятнами крылечки трактиров, и оловянные кружки
в их руках ярко заблестели на солнце. Больничное кресло сэра Питта было
отправлено в сарай, где хранились садовые инструменты. Старый пойнтер первое
время принимался изредка выть – и это было единственное проявление горя в
замке, которым сэр Питт Кроули управлял почти шестьдесят лет.
Так как
в имении водилось много дичи, а охота на куропаток как бы входит в обязанность
английского джентльмена с наклонностью к государственной деятельности, то, лишь
только прошло первое потрясение от горя, сэр Питт Кроули, в белой шляпе с
черными плерезами, начал понемногу выезжать и принимать участие в названном
развлечении. Вид скошенных полей и плантаций, составлявших теперь его
собственность, доставлял ему немало тайных радостей. Иногда в избытке смирения
он не брал с собой иного оружия, как мирную бамбуковую трость, предоставляя
Родону и егерям палить из ружей. Деньги и земли Питта производили на брата сильное
впечатление. Не имевший ни пенни за душой, полковник был преисполнен подобострастия
к главе семьи и уже больше не презирал «мокрой курицы Питта». Сочувственно
выслушивал он планы старшего брата о посадках и осушении болот, давал советы
относительно конюшен и рогатого скота, ездил в Мадбери осматривать верховую
лошадь, которая, по его мнению, должна была подойти для леди Джейн, предлагал
объездить ее и т. д. Мятежный драгун совсем присмирел, стушевался и
сделался вполне приличным младшим братом.
Он получал
из Лондона постоянные бюллетени от мисс Бригс об оставленном там маленьком
Родоне; мальчик и сам присылал известия о себе. «Я жив-здоров, – писал
он. – Надеюсь, что и ты жив-здоров. Надеюсь, что и мама здорова. Пони
жив-здоров. Грэй берет меня кататься в Парк. Я научился скакать галопом. Я
встретил того мальчика, с которым катался верхом. Он заплакал, когда поскакал.
А я не плачу».
Родон
читал эти письма брату и леди Джейн, которая приходила от них в восторг.
Баронет обещал платить за мальчика в школу, а его добросердечная жена дала
Ребекке банковый билет с просьбой купить подарок от нее маленькому племяннику.
День
проходил за днем; дамы в замке проводили время в тихих занятиях и развлечениях,
какими обычно довольствуются женщины, живя в деревне. Колокол созывал их к
молитве и к столу. Каждое утро после завтрака молодые девицы упражнялись на
фортепьяно, и Ребекка давала им советы и указания. Затем они надевали башмаки
на толстой подошве и гуляли в парке и в роще или, выйдя за ограду, в деревню,
заходили в коттеджи и раздавали больным лекарства и брошюры леди Саутдаун. Сама
леди Саутдаун выезжала в фаэтоне; Ребекка в этих случаях занимала место рядом с
вдовствующей леди и с глубоким интересом слушала ее назидательные речи. По
вечерам она пела Генделя и Гайдна и начала вязать большую шаль из шерсти, как
будто родилась для таких занятий и как будто ей предстояло продолжать их, пока
она не сойдет в могилу в преклонных летах, оставив после себя безутешных
родственников и большое количество процентных бумаг, – как будто не было
ни забот, ни назойливых кредиторов, ни интриг, уловок и бедности, карауливших
за воротами парка, чтобы вцепиться в нее, как только она высунет нос наружу.
«Не
велика хитрость быть женой помещика,
– думала Ребекка. – Пожалуй, и я была бы хорошей женщиной, имей я пять
тысяч фунтов в год. И я могла бы возиться в детской и считать абрикосы на
шпалерах. И я могла бы поливать растения в оранжереях и обрывать сухие листья
на герани. Я расспрашивала бы старух об их ревматизмах и заказывала бы на полкроны
супу для бедных. Подумаешь, какая потеря при пяти-то тысячах в год! Я даже
могла бы ездить за десять миль обедать к соседям и одеваться по моде
позапрошлого года. Могла бы ходить в церковь и не засыпать во время службы или,
наоборот, дремала бы под защитой занавесей, сидя на фамильной скамье и опустив
вуаль, – стоило бы только попрактиковаться. Я могла бы со всеми
расплачиваться наличными – для этого нужно лишь иметь деньги. А здешние чудотворцы
этим и гордятся. Они смотрят с сожалением на нас, несчастных грешников, не имеющих
ни гроша. Они гордятся тем, что дают нашим детям банковый билет в пять фунтов,
а нас презирают за то, что у нас нет его».
Кто
знает, быть может, Ребекка и была права в своих рассуждениях, и только деньгами
и случаем определяется разница между нею и честной женщиной! Если принять во
внимание силу соблазна, кто может сказать о себе, что он лучше своего ближнего?
Пусть спокойное, обеспеченное положение и но делает человека честным, оно, во
всяком случае, помогает ему сохранить честность. Какой-нибудь олдермен,
возвращающийся с обеда, где его угощали черепаховым супом, не вылезет из
экипажа, чтобы украсть баранью ногу; но заставьте его поголодать – и посмотрите,
не стащит ли он ковригу хлеба. Так утешала себя Бекки, соразмеряя шансы и
оценивая распределение добра и зла в этом мире.
Старые
любимые места, знакомые ноля и леса, рощи, пруды и сад, комнаты старого дома,
где некогда она провела целых два года, – все это Бекки обошла опять.
Здесь она была молода, или сравнительно молода, – потому что она уже не
помнила, когда была действительно молодой, – но она помнила свои мысли и
чувства семилетней давности и сравнивала их с теперешними, когда она уже видела
свет, общалась со знатными людьми и высоко поднялась по сравнению со своим
первоначальным скромным положением.
«Я
добилась этого, потому что у меня есть голова на плечах, – думала Бекки, – и
потому, что мир состоит из дураков. Я не могла бы теперь вернуться назад и
якшаться с людьми, с которыми встречалась в студии отца. Ко мне приезжают лорды
со звездами и орденами Подвязки вместо бедных артистов с табачными крошками в
кармане. У меня муж – джентльмен, у меня невестка – графская дочь, и я живу в
том самом доме, где несколько лет тому назад мое положение мало чем отличалось
от положения прислуги. Но лучше ли я обеспечена теперь, чем когда была дочерью
бедного художника и выпрашивала чай и сахар в ближайшей лавочке? Если бы я
вышла замуж за Фрэнсиса, который так любил меня, я и то не была бы бедное, чем
сейчас. Ах, с каким удовольствием я променяла бы свое положение в обществе и
все мои связи на кругленький капиталец в трехпроцентных бумагах!»
Вот
каким образом воспринимала Бекки тщету человеческих дел, и вот в какой надежной
пристани она мечтала бросить якорь.
Может
быть, ей и приходило в голову, что, если бы она была честной и скромной женщиной,
выполняла свои обязанности и шла в жизни прямым путем, она была бы сейчас не
дальше от того счастья, к которому пробиралась окольными тропами. Но как дети в
Королевском Кроули обходили ту комнату, где лежало тело их отца, так и Бекки,
если эти мысли и возникали у нее, обходила их стороной. Она избегала и
презирала их, предпочитая следовать другим путем, сойти с которого
представлялось ей уже невозможным. Мне лично кажется, что угрызения совести –
наименее действенное из моральных чувств человека: если они и пробуждаются,
подавить их легче всего, а некоторым они и вовсе не знакомы. Мы расстраиваемся,
когда нас уличают, или при мысли о стыде и наказании; но само по себе чувство
вины отравляет жизнь лишь очень немногим на Ярмарке Тщеславия.
Итак,
Ребекка за время своего пребывания в Королевском Кроули приобрела столько друзей
среди служителей мамоны, сколько было в ее власти. Леди Джейн и ее супруг
простились с нею с самыми теплыми изъявлениями чувств. Они возлагали надежду на
скорую встречу в Лондоне, когда фамильный дом на Гонт-стрит будет
отремонтирован и отделан заново. Леди Саутдаун снабдила Ребекку небольшой
аптечкой и послала через нее преподобному Лоренсу Грилсу письмо, в котором
просила этого джентльмена спасти «подательницу сего» от вечного огня. Питт
проводил их в карете четверкой до Мадбери, послав вперед на повозке их багаж
вместе с запасом дичи.
– Как
рады вы будете опять увидеть вашего милого мальчика! – сказала леди Джейн
Кроули, прощаясь с родственницей.
– О
да, так рада! – простонала Ребекка, закатывая свои зеленые глаза. Она была
безмерно счастлива покинуть Королевское Кроули, но уезжать ей не хотелось.
Правда, здесь можно пропасть от тоски, но все-таки воздух гораздо чище, чем
тот, которым она привыкла дышать. Обитатели замка скучны, но каждый по-своему
относился к ной хорошо.
«Это
все результат длительного обладания трехпроцентными бумагами», – говорила себе Бекки и,
вероятно, была права.
Как бы
то ни было, лондонские фонари весело сияли, когда почтовая карета въехала на Пикаднлли;
на Керзон-стрит Бригс жарко растопила камин, и маленький Родон не ложился
спать, чтобы самому встретить папу и маму.
|


