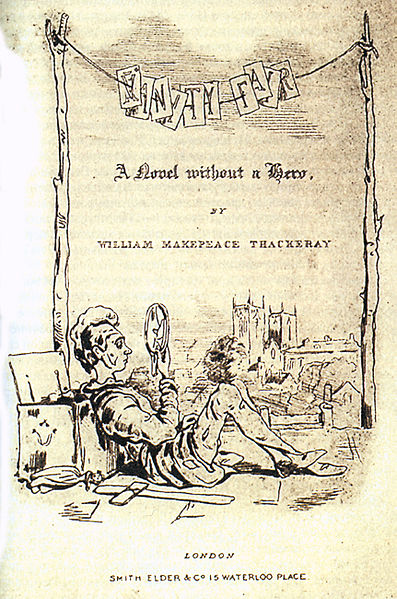
 Увеличить Увеличить |
ГЛАВА XLVIII,
в которой читателя
вводят в высшее общество
Наконец
любезность и внимание Бекки к главе семьи ее мужа увенчались чрезвычайной
наградой – наградой хотя, конечно, и не материальной, но которой маленькая
женщина добивалась более усердно, чем каких-нибудь осязаемых благ. Если она и
не питала склонности к добродетельной жизни, то желала пользоваться репутацией
добродетельной особы, а мы знаем, что в светском обществе ни одна женщина не
достигнет этой желанной цели, пока не украсит себя шлейфом и перьями и не будет
представлена ко двору своего монарха. С этого августейшего свидания она уходит
честной женщиной. Лорд-камергер выдает ей свидетельство о добродетели. И как
сомнительные товары или письма проходят в карантине сквозь печь, после чего их
опрыскивают ароматическим уксусом и объявляют очищенными, так и многие леди,
имеющие сомнительную репутацию и разносящие заразу, пройдя через целительное
горнило королевского присутствия, выходят оттуда чистые, как стеклышко, без
малейшего пятна.
Пусть
миледи Бейракрс, миледи Тафто, миссис Бьют Кроули в своем Хэмшнпре и другие
подобные им дамы, лично знавшие миссис Родон Кроули, кричат: «Позор!» – при
мысли о том, что эта мерзкая авантюристка склонится в реверансе перед монархом,
и пусть заявляют, что, будь жива добрая королева Шарлотта, она никогда не
потерпела бы такой испорченной особы в своей целомудренной гостиной. Но если мы
примем в соображение, что миссис Родон подверглась испытанию в присутствии
первого джентльмена Европы и выдержала, так сказать, экзамен на репутацию, то,
право же, будет явным нарушением верноподданнических чувств сомневаться и
дальше в ее добродетели. Я, со своей стороны, с любовью и благоговением
оглядываюсь на эту великую историческую личность. И как же высоко мы ценим на
Ярмарке Тщеславия благородное звание джентльмена, если это высокочтимое
августейшее лицо по единодушному решению лучшей и образованнейшей части
населения было облечено титулом «Первого Джентльмена» своего королевства.
Помнишь ли, дорогой М., о друг моей юности, как в некий счастливый вечер,
двадцать пять лет тому назад, когда на сцене шел «Тартюф» в постановке Элпстона
и с Дотоном и Листоном в главных ролях, два мальчика получили от верноподданных
учителей разрешение уйти из школы Живодерни, где они учились, чтобы
присоединиться к толпе на сцене Друри-лейнского театра, собравшейся
приветствовать короля. Короля? Да, это был он. Лейб-гвардейцы стояли перед
высочайшей ложей; маркиз Стайн (лорд Пудреной комнаты) и другие государственные
сановники толпились за его креслом, а он сидел толстый, румяный, увешанный
орденами, в пышных локонах. Как мы пели «Боже, храпи короля!». Как все здание
сотрясалось и гремело от великолепной музыки! Как все надрывались, кричали
«ура!» и махали носовыми платками! Дамы плакали, матери обнимали детей,
некоторые падали в обморок от волнения. Народ задыхался в партере, крик и стон
стояли над волнующейся, кричащей толпой, выражавшей такую готовность – и чуть
ли не в самом деле готовой – умереть за него. Да, мы видели его. Этого судьба у
нас не отнимет. Другие видели Наполеона. На свете живут люди, которые видели
Фридриха Великого, доктора Джонсона, Марию-Антуанетту… Так скажем своим детям
без ложного хвастовства, что мы видели Георга Доброго, Великолепного, Великого.
Итак, в
жизни миссис Родон Кроули настал счастливый день, когда этот ангел был допущен
в придворный рай, о котором он так мечтая. Невестка была как бы ее крестной
матерью. В назначенный день сэр Питт с женой в большой фамильной карете
(недавно заказанной по случаю ожидаемого получения баронетом высокой должности
шерифа в своем графстве) подкатили к маленькому домику на Керзон-стрит, в
назидание Реглсу, который, наблюдая из своей зеленной, увидал роскошные перья
внутри кареты и огромные бутоньерки на груди лакеев в новых ливреях.
Сэр Питт
в блестящем мундире, со шпагой, болтающейся между ног, вышел из кареты и
направился в дом. Маленький Родон прильнул лицом к окну гостиной и, улыбаясь,
кивал изо всех сил тетушке, сидевшей в карете. Вскоре Питт снова появился, ведя
леди в пышных перьях на голове, закутанную в белую шаль и изящно поддерживающую
свой шлейф из великолепной парчи. Она вошла в карету, словно принцесса,
привыкшая всю жизнь ездить ко двору, и милостиво улыбнулась лакею,
распахнувшему перед ней дверцы, и сэру Питту, который сел вслед за ней.
Затем
появился Родон в своем старом гвардейском мундире, который уже порядочно поистрепался
и был ему тесен. Он должен был замыкать процессию и прибыть с визитом к своему
монарху в наемном экипаже, но добрая невестка настояла на том, что они все
поедут по-семейному: карета просторная, дамы не слишком полные и могут держать
шлейфы на коленях, – в конце концов все четверо отбыли вместе. Их карета
скоро присоединилась к веренице верноподданнических экипажей, двигавшихся по
Пикадилли и Сент-Джеймс-стрит по направлению к старому кирпичному дворцу, где
«Брауншвейгская Звезда» готовился к приему своего дворянства и знати.
Бекки
готова была из окна кареты благословлять всех прохожих: в таком приподнятом состоянии
духа находилась она и так сильно было в ней сознание того высокого положения,
какого она, наконец, достигла. Увы, даже у нашей Бекки были свои слабости. Как
часто люди гордятся такими качествами, которых другие не замечают в них!
Например, Комус твердо убежден, что он самый великий трагик в Англии; Браун,
знаменитый романист, мечтает прославиться не как видный писатель, а как
светский человек; Робинсон, известный юрист, нисколько не дорожит своей
репутацией в Вестминстер-холле, но считает себя несравненным спортсменом и
наездником. Так и Бекки поставила себе целью быть и считаться респектабельной
женщиной и добивалась этой цели с удивительным упорством, находчивостью и
успехом. Как уже говорилось, временами она готова была и сама вообразить себя
светской леди, забывая, что дома у нее в шкатулке нет ни гроша, что кредиторы
толпятся у ворот, поставщиков приходится уговаривать и умасливать, –
словом, что у нее нет твердой почвы под ногами. И вот сейчас, отправляясь в карете
– в фамильной карете! – ко двору, она приняла такой величественный,
самодовольный, непринужденный и внушительный вид, что это вызвало улыбку даже у
леди Джейн. Она вошла в королевские покои, высоко подняв голову, как подобало
бы королеве; и если бы Бекки сделалась королевой, я не сомневаюсь, она
бесподобно сыграла бы свою роль.
Мы можем
сказать с полной ответственностью, что costume de cour[99] миссис Родон Кроули по
случаю ее представления ко двору был чрезвычайно элегантен и блестящ. Многие
леди, которых мы видим, – мы, кто носит лепты и звезды и присутствует на
сент-джеймских приемах, или же мы, кто топчется в грязных сапогах по тротуарам
Пэл-Мэл и заглядывается в окна проезжающих карет на нарядную публику в шелках и
перьях, – многие светские леди, повторяю, которых мы видим в дни утренних
приемов около двух часов пополудни, когда оркестр лейб-гвардии в расшитых
галуном мундирах играет триумфальные марши, сидя на своих буланых скакунах, как
на живых табуретах – многие леди вовсе не восхищают нас своей красотой в это
раннее время дня. Какая-нибудь расплывшаяся графиня шестидесяти лет,
декольтированная, подкрашенная, морщинистая и нарумяненная до самых век, со
сверкающими брильянтами в парике, представляет зрелище скорее полезное и
поучительное, чем привлекательное. Выглядит она как Сент-Джеймс-стрит ранним
утром, когда половина фонарей погасла, а другая половина пугливо мерцает,
словно духи, приготовившиеся бежать перед рассветом. Такие прелести, какие наш
взгляд улавливает в проезжающей мимо карете ее милости, должны были бы
показаться на улице только ночью. Если днем даже Цинтия кажется бледной, –
ибо именно такой приходилось нам наблюдать ее в нынешнем зимнем сезоне, когда
Феб нахально заглядывался на нее с неба, – то как же может леди Каслмоулди
высоко держать голову, когда солнце глядит в окно кареты, беспощадно выводя на
свет божий все морщины и гусиные лапки, которыми время избороздило ее лицо?
Нет, в придворных гостиных нужно устраивать приемы в ноябре или в туманный
день; а может быть, престарелые султанши нашей Ярмарки Тщеславия должны
передвигаться в закрытых носилках, выходить из них закутанными и делать свои
реверансы монарху под защитой полумрака.
Однако
наша милая Ребекка не нуждалась в таком благодетельном освещении; цвет лица у
нее еще не боялся яркого солнечного света, а ее платье – правда, любой
современной даме на Ярмарке Тщеславия оно показалось бы самым нелепым и
фантастическим одеянием, какое только можно вообразить, но тогда, двадцать пять
лет назад, этот наряд в ее глазах и глазах остального общества казался столь же
восхитительным, как и самый блестящий туалет прославленной красавицы нынешнего
сезона… Пройдет десятка два лет, и это чудесное произведение портновского
искусства отойдет в область предания вместе со всякой другой суетой сует… Но мы
слишком отклонились в сторону. Туалет миссис Родон в знаменательный день ее
представления ко двору был признан charmant[100].
Даже добрая леди Джейн вынуждена была с этим согласиться; глядя на миссис
Бекки, она с грустью признавалась себе, что в ее собственном наряде гораздо
меньше вкуса.
Она и не
догадывалась, как много стараний, размышлений и выдумки затратила миссис Родон
на этот туалет. У Ребекки был вкус не хуже, чем у любой портнихи в Европе, и
такое необычайное умение устраиваться в жизни, о каком леди Джейн не имела
представления. Последняя тотчас же заметила великолепную парчу на шлейфе у
Бекки и роскошные кружева на ее платье.
Парча –
это старый остаток, сказала Бекки, а кружева – необыкновенно удачное приобретение,
они лежали у нее сто лет.
– Милая
моя миссис Кроули, ведь они должны стоить целое состояние, – сказала леди
Джейн, глядя на свои собственные кружева, которые были далеко не так хороши.
Затем, приглядевшись к старинной парче, из которой был сшит придворный туалет
миссис Родон, она хотела сказать, что не решилась бы сделать себе такое
роскошное платье, но подавила в себе это желание, как недоброе.
Но если
бы леди Джейн знала все, я думаю, что даже ее обычная кротость изменила бы ей.
Дело в том, что, когда миссис Родон приводила в порядок дом сэра Питта, она
нашла кружева и парчу – эту собственность прежних хозяек дома – в старых
гардеробах и украдкой унесла эти сокровища домой, чтобы украсить ими
собственную персону. Бригс видела, как Бекки их взяла, но не задавала вопросов
и не поднимала шума; возможно, она даже посочувствовала ей, как посочувствовали
бы многие честные женщины.
А
брильянты…
– Откуда,
черт возьми, у тебя эти брильянты, Бекки? – спросил ее муж, восхищаясь
драгоценностями, которых он никогда не видел раньше и которые ярко сверкали у
нее в ушах и на шее.
Бекки
слегка покраснела и пристально взглянула на него. Питт Кроули также слегка покраснел
и уставился в окно. Дело в том, что он сам подарил Бекки часть этих
драгоценностей – прелестный брильянтовый фермуар, которым было застегнуто ее
жемчужное ожерелье, – и как-то упустил случай сказать об этом жене. –
Бекки
посмотрела на мужа, потом с видом дерзкого торжества – на сэра Питта, как будто
хотела сказать: «Выдать вас?»
– Отгадай! –
ответила она мужу. – Ну, глупыш ты мой! – продолжала она. –
Откуда, ты думаешь, я их достала – все, за исключением фермуара, который давно
подарил мне один близкий друг? Конечно, взяла напрокат. Я взяла их у мистера
Полониуса на Ковентри-стрит. Неужели ты думаешь, что все брильянты, какие
появляются при дворе, принадлежат владельцам, как эти прекрасные камни у леди Джейн, –
они, кстати сказать, гораздо красивее моих.
– Это
фамильные драгоценности, – произнес сэр Питт, опять почувствовав себя
неловко.
Пока
продолжалась эта семейная беседа, карета катила по улице и наконец освободилась
от своего груза у подъезда дворца, где монарх восседал уже в полном параде.
Брильянты,
вызвавшие восторг Родона, не вернулись к мистеру Полониусу на Ковентри-стрит,
да этот джентльмен и не требовал их возвращения. Они вернулись в маленькое
тайное хранилище, в старинную шкатулку – давнишний подарок Эмилии Седли, где
Бекки хранила немало полезных, а может быть, и ценных вещей, о которых муж
ничего не знал. Ничего не знать или знать очень мало – это участь многих мужей.
А скрывать – в характере скольких женщин? О дамы! кто из вас не скрывает от
мужей счета своих модисток? У скольких из вас есть наряды и браслеты, которые
вы не смеете показывать или носите с трепетом? С трепетом и улыбками ластитесь
вы к мужу, который сидит рядом с вами и не может отличить новое бархатное
платье от вашего старого или новый браслет от прошлогоднего и понятия не имеет
о том, что похожий на тряпочку желтый кружевной шарф стоит сорок гиней и что от
мадам Бобино каждую неделю приходят настойчивые письма с требованием денег!
Так и
Родон ничего не знал ни о прекрасных брильянтовых серьгах, ни о брильянтовом медальоне,
украшавшем грудь жены. Но лорд Стайн, который в качестве лорда Пудреной комнаты
и одного из важнейших сановников и славных защитников английского трона
присутствовал здесь среди других вельмож во всем блеске своих звезд, орденов,
подвязок и прочих регалий и явно выделял эту маленькую женщину из числа других,
отлично знал, откуда у нее эти драгоценности и кто платил за них.
Наклонившись
к ней с улыбкой, он процитировал всем известные прекрасные стихи из «Похищения
локона» о брильянтах Белинды, которые «еврей лобзать бы стал и обожать – неверный».
– Но,
я надеюсь, ваша милость – правоверный? – сказала маленькая леди, вскинув
голову.
Многие
леди кругом нее шушукались и судачили, а многие джентльмены кивали головой и
перешептывались, видя, какое явное внимание оказывает маленькой авантюристке
этот вельможа.
Нет,
наше слабое и неопытное перо не в силах передать подробности свидания Ребекки
Кроули, урожденной Шарп, с ее царственным повелителем! Ослепленные глаза зажмуриваются
при одной мысли об этом величии. Верноподданнические чувства не позволяют нам
даже мысленно бросить слишком пытливый и смелый взор в священный аудиенц-зал,
но заставляют нас быстро и почтительно отступить, в благоговейном молчании
отвешивая августейшему величеству низкие поклоны.
Достаточно
сказать, что после этого свидания во всем Лондоне не нашлось бы более верноподданнического
сердца, чем сердце Бекки. Имя короля было постоянно у нее на устах, и она
заявляла, что он очаровательнейший из смертных. Она отправилась в магазин
Кольнаги и заказала самый прекрасный его портрет, какой только могло создать
искусство и какой можно было достать в кредит, – знаменитый портрет, где
лучший из монархов, в кафтане с меховым воротником, в коротких панталонах и в
шелковых чулках, изображен сидящим на софе и глупо ухмыляющимся из-под своего
кудрявого каштанового парика. Она заказала себе брошку с миниатюрой короля и
носила ее. Она забавляла своих знакомых и даже несколько надоела им постоянными
разговорами о его любезности и красоте.
Кто
знает, может быть, маленькая женщина мечтала о роли новой Ментенон или Помпадур.
Но
интереснее всего было послушать после представления ко двору ее разговоры о
добродетели. У Ребекки было несколько знакомых дам, которые, надо сознаться,
пользовались не слишком высокой репутацией на Ярмарке Тщеславия. И вот теперь,
сделавшись, так сказать, честной женщиной, Бекки не хотела поддерживать
знакомство с этими сомнительными особами: она не ответила леди Крекенбери,
когда последняя кивнула ей из своей ложи, а встретив миссис Вашингтон-Уайт на
кругу в Парке, и вовсе от нее отвернулась.
– Необходимо,
мой милый, дать им почувствовать, кто я такая, – говорила она, – я не
могу показываться с сомнительными людьми. Мне от души жаль леди Крекенбери, да
и миссис Вашингтон-Уайт очень добрая женщина. Ты можешь ездить к ним и обедать
у них, если тебе хочется поиграть в карты. Но я не могу и не хочу у них бывать
и, пожалуйста, будь добр, скажи Смиту, что меня ни для кого из них нет дома.
Описание
туалета Бекки появилось в газетах – перья, кружева, роскошные брильянты и все
прочее. Миссис Крекенбери с горечью прочитала эту заметку и пустилась в
рассуждения со своими поклонниками о том, какую важность напускает на себя эта
женщина. Миссис Бьют Кроули и ее юные дочери в Хэмпшире, получив из города
номер «Морнинг пост», также дали волю благородному негодованию.
– Если
бы у тебя были рыжие волосы, зеленые глаза и ты была дочерью французской канатной
плясуньи, – говорила миссис Бьют старшей дочери (которая, напротив, была
смуглой, низенькой и курносой девицей), – у тебя, разумеется, были бы
роскошные брильянты и твоя кузина леди Джейн представила бы тебя ко двору. Но
ты всего только родовитая дворянка, мое бедное дорогое дитя. В твоих жилах
течет благороднейшая кровь Англии, а твое приданое – всего лишь добрые принципы
и благочестие. Я сама – жена младшего брата баронета, а ведь мне никогда и в
голову не приходило представляться ко двору, да и другим не пришло бы это в голову,
если бы жива была добрая королева Шарлотта.
Таким
образом достойная пасторша утешала себя, а ее дочери вздыхали и весь вечер просидели
над Книгой пэров.
Через
несколько дней после знаменитого представления ко двору добродетельная Бекки
удостоилась другой великой чести: к подъезду Родона Кроули подкатила карета
леди Стайн, и выездной лакей, вместо того чтобы разнести двери, как можно было
подумать по его громкому стуку, сменил гнев на милость и только вручил Смиту
две визитные карточки, на которых были выгравированы имена маркизы Стайн и
графини Гонт. Если бы эти кусочки картона были прекрасными картинами или если
бы на них было намотано сто ярдов малинских кружев, стоящих вдвое большее число
гиней, Бекки и то не могла бы рассматривать их с большим удовольствием. Могу
вас уверить, что они заняли видное место в фарфоровой вазе на столе в гостиной,
где хранились карточки ее посетителей. Боже! Боже! Как быстро бедные карточки
миссис Вашингтон-Уайт и леди Крекенбери, которым несколько месяцев тому назад
наша маленькая приятельница была так рада и которыми это глупенькое создание
так гордилось – боже! боже! – говорю я, – как быстро эти бедные
двойки очутились в самом низу колоды при появлении знатных фигурных карт.
Стайн! Бейракрс! Джонс Хельвелин и Керлайон Камелот! Можете быть уверены, что
Бекки и Бригс отыскали эти высокие фамилии в Книге пэров и проследили эти
благородные династии во всех разветвлениях генеалогического древа.
Часа
через два приехал милорд Стайн; оглядевшись и все, по обыкновению, приметив, он
увидел карточки своих дам, разложенные рукою Бекки, словно козыри в ее игре, и
как было свойственно этому старому цинику, усмехнулся при таком наивном
проявлении человеческой слабости. Бекки тотчас спустилась к нему; всякий раз,
когда эта дорогая малютка ожидала его милость, ее туалет бывал безукоризнен,
волосы в совершенном порядке и платочки, переднички, шарфики, маленькие
сафьяновые туфельки и прочие мелочи женского туалета в надлежащем виде; она
сидела в изящной непринужденной позе, готовая принять его; если же он являлся
неожиданно, она, конечно, спешила в свою комнату, чтобы бросить быстрый взгляд
в зеркало, и потом уже сбегала вниз приветствовать знатного пэра.
Стоя в
гостиной, он с усмешкой поглядывал на вазу с карточками. Бекки, пойманная с поличным,
слегка покраснела,
– Благодарю
вас, monseigneur, – сказала она. – Вы видите, что ваши дамы были
здесь. Как вы добры! Я не могла выйти раньше: я занималась пудингом на кухне.
– Я
это знаю: я видел вас в подвальном окне, когда подъехал к дому, – отвечал
старый джентльмен.
– Вы
все видите, – сказала она.
– Кое-что
я вижу, но этого я не мог видеть, моя прелесть, – ответил он
добродушно. – Ах вы, маленькая выдумщица! Я слышал, как вы ходили в
спальне над моей головой, и не сомневаюсь, вы слегка подрумянились… Вы должны
дать немного ваших румян леди Гонт: у нее отвратительный цвет лица… Потом я
слышал, как дверь спальни отворилась и вы спустились по лестнице.
– Разве
это преступление – повертеться перед зеркалом, когда вы приходите ко мне? –
жалобно ответила миссис Родон и потерла щеку носовым платком, словно хотела
показать, что на ней совсем нет краски, а только естественный скромный румянец.
(Кто может сказать, как оно было на самом деле? Я знаю, есть румяна, которые не
сходят, если их потереть платком, а некоторые так прочны, что даже слезы их не
смывают.)
– Ну, –
сказал старый джентльмен, играя карточкой своей жены, – вы, значит,
собираетесь сделаться светской дамой. Вы мучаете бедного старика, заставляя его
вводить вас в свет. Все равно вы там не удержитесь, маленькая вы
глупышка, – у вас нет денег!
– Вы
нам достанете место, – быстро вставила Бекки.
– У
вас нет денег, а вы хотите тягаться с теми, у кого они есть. Вы, жалкий
глиняный горшочек, хотите плыть по реке вместе с большими медными котлами. Все
женщины одинаковы: все они жаждут того, чего не стоит и добиваться… Вчера я
обедал у короля, и нам подавали баранину с репой. Обед из зелени часто бывает
лучше, чем самая сочная говядина… Вы попадете в Гонт-Хаус. Вы покою не дадите
бедному старику, пока не попадете туда! А ведь там и вполовину не так уютно,
как здесь. Вам будет скучно. Мне там всегда скучно. Моя жена весела, как леди
Макбет, а дочери жизнерадостны, как Регана и Гонерилья. Я не решаюсь спать в
так называемой моей опочивальне: кровать похожа на балдахин в соборе святого
Петра, а картины наводят на меня тоску. У меня в гардеробной есть маленькая
медная кроватка и маленький волосяной матрац анахорета. Я анахорет. Хо! Хо! Вы
получите приглашение к обеду на будущей неделе. Но gare aux femmes![101]
Будьте начеку! Как вас будут донимать женщины!
Это была
очень длинная речь для немногоречивого лорда Стайна; и это не в первый раз он
поучал Ребекку.
Бригс
подняла голову из-за своего рабочего столика, за которым сидела в соседней комнате,
и издала глубокий вздох, когда услышала, как легкомысленно маркиз отзывается о
представительницах ее пола.
– Если
вы не прогоните эту отвратительную овчарку, – сказал лорд Стайн, бросая
через плечо яростный взгляд, – я отравлю ее.
– Я
всегда кормлю собаку из собственной тарелки, – сказала Ребекка, задорно
смеясь.
Выждав
некоторое время и насладившись неудовольствием милорда, который ненавидел
бедную Бригс за то, что она нарушала его tete-a-tete с прелестной женой
полковника, миссис Родон наконец сжалилась над своим поклонником и, подозвав
Бригс, похвалила погоду и попросила ее погулять с малышом.
– Я
не могу прогнать ее, – помолчав немного, сказала Бекки печальным голосом;
ее глаза наполнились слезами, и она отвернулась.
– Вы,
наверно, задолжали ей жалованье? – спросил пэр.
– Хуже
того, – сказала Бекки, не поднимая глаз, – я разорила ее.
– Разорили?
Почему же вы не выгоните ее? – спросил джентльмен.
– Только
мужчины могут так рассуждать, – с горечью ответила Бекки. – Женщины
не настолько бессердечны. В прошлом году, когда у нас вышли все деньги, она
отдала нам свои сбережения и теперь не оставит нас, пока и мы, в свою очередь,
не разоримся, что, по-видимому, недалеко, – или пока я не выплачу ей все,
до последнего фартинга.
– Черт
возьми! Сколько же вы ей задолжали? – спросил пэр, и Бекки, приняв в
соображение огромное богатство своего собеседника, назвала сумму, почти вдвое
большую, чем та, которую она заняла у мисс Бригс.
В ответ
лорд Стайн произнес короткое и энергическое слово, отчего Ребекка еще ниже
опустила голову и горько заплакала.
– Я
не виновата. У меня не было другого выхода, – сказала она. – Я не
смею сказать мужу: он убьет меня, если узнает, что я натворила. Я первому вам
это говорю… и то вы меня принудили. Ах, что мне делать, лорд Стайн? Я очень,
очень несчастна!
Лорд
Стайн не отвечал ни слова и только барабанил по столу и кусал ногти, а потом
нахлобучил шляпу и выбежал из комнаты.
Ребекка
сидела все в той же печальной позе, пока внизу не хлопнула дверь и не послышался
шум отъезжавшего экипажа. Тогда она встала, и в ее глазах сверкнуло странное
выражение, злобное и торжествующее. Раза два она принималась хохотать, сидя за
работой. Потом, усевшись за фортепьяно, разразилась такой победной
импровизацией, что прохожие останавливались под окном, прислушиваясь к ее
блистательной игре.
В тот же
вечер маленькой женщине были доставлены два письма из Гонт-Хауса. В одном было
приглашение на обед от лорда и леди Стайн на следующую пятницу, а в другом
находился листок сероватой бумаги с подписью лорда Стайна – на имя господ
Джонса, Брауна и Робинсона на Ломбард-стрит.
Ночью
Родон раза два слышал, как Бекки смеялась: она предвкушает удовольствие побывать
в Гонт-Хаусе и встретиться с тамошними леди, пояснила она. На самом же деле ее
занимало множество других мыслей: расплатиться ли ей со старой Бригс и
отпустить ее? Или удивить Реглса и отдать ему долг за аренду дома? Лежа в
постели, она перебирала все эти мысли; и на другое утро, когда Родон пошел, по
обыкновению, в клуб, миссис Кроули (в скромном платье и под вуалью) поехала в
наемной карете в Сити. Остановившись возле банка господ Джонса и Робинсона, она
предъявила документ сидевшему за конторкой служащему, который спросил ее, в
каком виде она желает получить деньги. Она скромно сказала, что ей хотелось бы
получить «сто пятьдесят фунтов мелкими купюрами, а остальное одним банкнотом».
Затем,
проходя по улице возле собора св. Павла, она заглянула в магазин и купила для
Бригс превосходное черное шелковое платье, которое с поцелуем и нежными словами
презентовала простодушной старой деве.
После
этого она отправилась к мистеру Реглсу, ласково расспросила его о детях и
вручила ему пятьдесят фунтов в счет уплаты долга. Оттуда она пошла к
содержателю конюшен, у которого брала напрокат экипажи, и вознаградила его
такой же суммой.
– Я
надеюсь, это послужит вам уроком, Спэйвин, – сказала она, – и к
следующему приему во дворце моему брату сэру Пихту не придется ехать вчетвером
в одной карете из-за того, что мой экипаж не был подан.
Ребекка
намекала на прискорбное недоразумение, вследствие которого полковнику едва не
пришлось явиться к своему монарху в наемном кебе.
Устроив
все эти дела, Бекки поднялась наверх навестить упомянутую выше шкатулку, которую
Эмилия Седли подарила ей много-много лет назад и в которой хранилось немало
полезных и ценных вещиц; в это секретное хранилище она спрятала банковый билет,
который выдал ей кассир господ Джонса и Робинсона.
|


