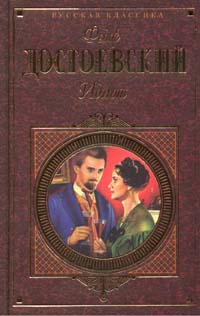
 Увеличить Увеличить |
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
I.
В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд
Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу.
Было так сыро и туманно, что насилу рассвело; в десяти шагах, вправо и влево от
дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров
были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для
третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как
водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были
бледножелтые, под цвет тумана.
В одном из вагонов третьего класса, с рассвета, очутились
друг против друга, у самого окна, два пассажира, — оба люди молодые, оба
почти налегке, оба не щегольски одетые, оба с довольно замечательными
физиономиями, и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б
они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то,
конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в
третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был
небольшого роста, лет двадцати семи, курчавый и почти черноволосый, с серыми,
маленькими, но огненными глазами. Нос его был широки сплюснут, лицо скулистое;
тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую
улыбку; но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно
развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая
бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид,
несмотря на довольно крепкое сложение, и вместе с тем что-то страстное, до
страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и с резким,
самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный,
крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на
своей издрогшей спине всю сладость сырой, ноябрьской русской ночи, к которой,
очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без
рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь как употребляют часто дорожные, по
зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии, или, например, в Северной
Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйдкунена
до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не
совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек,
тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень
белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти
совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во
взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного
выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую
болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но
бесцветное, а теперь даже до-синя иззябшее. В руках его болтался тощий узелок
из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, всё его дорожное
достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, — всё
не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе всё это разглядел, частию от
нечего делать, и, наконец, спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так
бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах
ближнего:
— Зябко?
И повел плечами.
— Очень, — ответил сосед с чрезвычайною
готовностью, — и заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже
не думал, что у нас так холодно. Отвык.
— Из-за границы что ль?
— Да, из Швейцарии.
— Фью! Эк ведь вас!..
Черноволосый присвистнул и захохотал.
Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека
в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была
удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и
праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно
долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по
болезни, по какой-то странной нервной болезни, в роде падучей или Виттовой
пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз
усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: “что же, вылечили?” —
белокурый отвечал, что “нет, не вылечили”.
— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а
мы-то им здесь верим, — язвительно заметил черномазый.
— Истинная правда! — ввязался в разговор один
сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто в роде закорузлого в подьячестве
чиновника, лет сорока, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом: —
истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят!
— О, как вы в моем случае ошибаетесь, — подхватил
швейцарский пациент, тихим и примиряющим голосом; — конечно, я спорить не
могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на
дорогу сюда дал, да два почти года там на свой счет содержал.
— Что ж, некому платить что ли было? — спросил
черномазый.
— Да, господин Павлищев, который меня там содержал, два
года назад помер; я писал потом сюда генеральше Епанчиной, моей дальней
родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал.
— Куда же приехали-то?
— То-есть, где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право…
так…
— Не решились еще?
И оба слушателя снова захохотали.
— И небось в этом узелке вся ваша суть
заключается? — спросил черномазый.
— Об заклад готов биться, что так, — подхватил с
чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник, — и что дальнейшей
поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедность и не порок, чего
опять-таки нельзя не заметить.
Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек
тотчас же и с необыкновенною поспешностью в этом признался.
— Узелок ваш всё-таки имеет некоторое значение, —
продолжал чиновник, когда нахохотались досыта (замечательно, что и сам
обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их
веселость), — и хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых,
заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими
арабчиками, о чем можно еще заключить, хотя бы только по штиблетам, облекающим
иностранные башмаки ваши, но… если к вашему узелку прибавить в придачу такую
будто бы родственницу, как, примерно, генеральша Епанчина, то и узелок примет
некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Епанчина
вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь, по рассеянности… что очень
и очень свойственно человеку, ну хоть… от излишка воображения.
— О, вы угадали опять, — подхватил белокурый
молодой человек, — ведь действительно почти ошибаюсь, то-есть почти что не
родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что
мне туда не ответили. Я так и ждал.
— Даром деньги на франкировку письма истратили. Гм… по
крайней мере, простодушны и искренны, а сие похвально! Гм… генерала же Епанчина
знаем-с, собственно потому, что человек общеизвестный; да и покойного господина
Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с, если только это
был Николай Андреевич Павлищев, потому что их два двоюродные брата. Другой
доселе в Крыму, а Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при
связях, и четыре тысячи душ в свое время имели-с…
— Точно так, его звали Николай Андреевич
Павлищев, — и, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел
господина всезнайку.
Эти господа всезнайки встречаются иногда, даже довольно
часто, в известном общественном слое. Они всё знают, вся беспокойная пытливость
их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону, конечно, за
отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы
современный мыслитель. Под словом: “всё знают” нужно разуметь, впрочем, область
довольно ограниченную: где служит такой-то? с кем он знаком, сколько у него
состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему
двоюродным братом приходится, кто троюродным и т. д, и т. д, и всё в этом роде.
Большею частию эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по
семнадцати рублей в месяц жалованья. Люди, о которых они знают всю подноготную,
конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем, многие
из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают
самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я
видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших
в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим
сделавших карьеру. В продолжение всего этого разговора черномазый молодой
человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия.
Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже
становился как-то странен: иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел,
смеялся и подчас сам не знал и не помнил чему смеялся.
— А позвольте, с кем имею честь… — обратился вдруг
угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком.
— Князь Лев Николаевич Мышкин, — отвечал тот с
полною и немедленною готовностью.
— Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже
и не слыхивал-с, — отвечал в раздумьи чиновник, — то-есть я не об
имени, имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно, я об лице-с,
да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается, даже и слух затих-с.
— О, еще бы! — тотчас же ответил князь: — князей
Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что
касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был,
впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и
генеральша Епанчина очутилась тоже из княжен Мышкиных, тоже последняя в своем
роде…
— Хе-хе-хе! Последняя в своем роде! Хе-хе! Как это вы
оборотили, — захихикал чиновник.
Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился,
что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур.
— А представьте, я совсем не думая сказал, —
пояснил он, наконец, в удивлении.
— Да уж понятно-с, понятно-с, — весело поддакнул
чиновник.
— А что вы, князь, и наукам там обучались, у
профессора-то? — спросил вдруг черномазый.
— Да… учился…
— А я вот ничему никогда не обучался.
— Да ведь и я так кой-чему только, — прибавил
князь, чуть не в извинение. — Меня по болезни не находили возможным
систематически учить.
— Рогожиных знаете? — быстро спросил черномазый.
— Нет, не знаю, совсем. Я ведь в России очень мало кого
знаю. Это вы-то Рогожин?
— Да, я Рогожин, Парфен.
— Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных… — начал
было с усиленною важностью чиновник.
— Да, тех, тех самых, — быстро и с невежливым
нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни
разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю.
— Да… как же это? — удивился до столбняка и чуть
не выпучил глаза чиновник, у которого всё лицо тотчас же стало складываться во
что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное: — это того самого
Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц
назад тому помре и два с половиной миллиона капиталу оставил?
— А ты откуда узнал, что он два с половиной миллиона
чистого капиталу оставил? — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз
взглянуть на чиновника: — ишь ведь! (мигнул он на него князю), и что только им
от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот
родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни
брат подлец, ни мать ни денег, ни уведомления, — ничего не прислали! Как
собаке! В горячке в Пскове весь месяц пролежал.
— А теперь миллиончик слишком разом получить
приходится, и это, по крайней мере, о, господи! — всплеснул руками
чиновник.
— Ну чего ему, скажите пожалуста! — раздражительно
и злобно кивнул на него опять Рогожин: — ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты
тут вверх ногами предо мной ходи.
— И буду, и буду ходить.
— Вишь! Да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши!
— И не давай! Так мне и надо; не давай! А я буду
плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти!
— Тьфу тебя! — сплюнул черномазый. — Пять
недель назад я, вот как и вы, — обратился он к князю, — с одним
узелком от родителя во Псков убег к тетке; да в горячке там и слег, а он без
меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до
смерти не убил! Верите ли, князь, вот ей богу! Не убеги я тогда, как раз бы
убил.
— Вы его чем-нибудь рассердили? — отозвался князь,
с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и
могло быть нечто достопримечательное собственно в миллионе и в получении
наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое; да и Рогожин
сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в
собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно; как-то
более от рассеянности, чем от простосердечия; от тревоги, от волнения, чтобы
только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он
до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до
чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и
взвешивал каждое слово, точно бриллианта искал.
— Рассердился-то он рассердился, да, может, и
стоило, — отвечал Рогожин, — но меня пуще всего брат доехал. Про
матушку нечего сказать, женщина старая, Четьи-Минеи читает, со старухами сидит,
и что Сенька-брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время
не дал? Понимаем-с! Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят,
телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там тридцатый
год вдовствует и всё с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка,
а еще пуще того. Телеграммы-то она испужалась, да не распечатывая в часть и
представила, так она там и залегла до сих пор. Только Конев, Василий Васильич,
выручил, всё отписал. С покрова парчевого на гробе родителя, ночью, брат кисти
литые, золотые, обрезал: “они дескать эвона каких денег стоят”. Да ведь он за
это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство. Эй
ты, пугало гороховое! — обратился он к чиновнику. — Как по закону:
святотатство?
— Святотатство! Святотатство! — тотчас же
поддакнул чиновник.
— За это в Сибирь?
— В Сибирь, в Сибирь! Тотчас в Сибирь!
— Они всё думают, что я еще болен, — продолжал
Рогожин князю, — а я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в
вагон, да и еду; отворяй ворота, братец Семен Семеныч! Он родителю покойному на
меня наговаривал, я знаю. А что я, действительно, чрез Настасью Филипповну
тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один. Попутал грех.
— Чрез Настасью Филипповну? — подобострастно
промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
— Да ведь не знаешь! — крикнул на него в
нетерпении Рогожин.
— Ан и знаю! — победоносно отвечал чиновник.
— Эвона! Да мало ль Настасий Филипповн! И какая ты
наглая, я тебе скажу, тварь! Ну, вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая
тварь так тотчас же и повиснет! — продолжал он князю.
— Ан, может, и знаю-с! — тормошился чиновник: —
Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что коли я докажу?
Ан, та самая Настасья Филипповна и есть, чрез которую ваш родитель вам внушить
пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать,
даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с
Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом,
членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Епанчиным
ведущие…
— Эге! Да ты вот что! — действительно удивился,
наконец, Рогожин; — тьфу чорт, да ведь он и впрямь знает.
— Всё знает! Лебедев всё знает! Я, ваша светлость, и с
Лихачевым Алексашкой два месяца ездил, и тоже после смерти родителя, и все,
то-есть, все углы и проулки знаю, и без Лебедева, дошло до того, что ни шагу.
Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Коралию, и
княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел
случай узнать.
— Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым… —
злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.
— Н-ничего! Н-н-ничего! Как есть ничего! —
спохватился и заторопился поскорее чиновник: — н-никакими, то-есть, деньгами
Лихачев доехать не мог! Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером
в Большом али во французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там
мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать: “вот,
дескать, это есть та самая Настасья Филипповна”, да и только, а насчет
дальнейшего — ничего! Потому что и нет ничего.
— Это вот всё так и есть, — мрачно и насупившись
подтвердил Рогожин, — то же мне и Залёжев тогда говорил. Я тогда, князь, в
третьягодняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина
выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залёжева, тот не
мне чета, ходит как приказчик от парикмахера, и лорнет в глазу, а мы у родителя
в смазных сапогах, да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета,
это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и
живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому совсем,
то-есть, лет достиг настоящих, пятидесяти пяти, и жениться на первейшей
раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же
можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в
бенуаре, будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить, —
одна расправа, убьет! Я однако же на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну
опять видел; всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне два пятипроцентные
билета, по пяти тысяч каждый, сходи, дескать, да продай, да семь тысяч пятьсот
к Андреевым на контору снеси, уплати, а остальную сдачу с десяти тысяч, не
заходя никуда, мне представь; буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги
взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в
английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в
каждой, эдак почти как по ореху будут, четыреста рублей должен остался, имя
сказал, поверили. С подвесками я к Залёжеву: так и так, идем, брат, к Настасье
Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по
бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла
к нам. Я, то-есть, тогда не сказался, что это я самый и есть; а “от Парфена,
дескать, Рогожина”, говорит Залёжев, “вам в память встречи вчерашнего дня;
соблаговолите принять”. Раскрыла, взглянула, усмехнулась: “благодарите,
говорит, вашего друга господина Рогожина за его любезное внимание”, откланялась
и ушла. Ну, вот зачем я тут не помер тогда же! Да если и пошел, так потому, что
думал: “всё равно, живой не вернусь!” А обиднее всего мне то показалось, что
этот бестия Залёжев всё на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как холуй, и
стою, молчу, на нее глаза палю, потому стыдно, а он по всей моде, в помаде, и
завитой, румяный, галстух клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается, и
уж наверно она его тут вместо меня приняла! “Ну, говорю, как мы вышли, ты у
меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь!” Смеется: “а вот как-то ты
теперь Семену Парфенычу отчет отдавать будешь?” Я, правда, хотел было тогда же
в воду, домой не заходя, да думаю: “ведь уж всё равно”, и как окаянный
воротился домой.
— Эх! Ух! — кривился чиновник, и даже дрожь его
пробирала: — а ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на
тот свет сживывал, — кивнул он князю.
Князь с любопытством рассматривал Рогожина; казалось, тот
был еще бледнее в эту минуту.
— Сживывал! — переговорил Рогожин: — ты что
знаешь? Тотчас, — продолжал он князю, — про всё узнал, да и Залёжев
каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель, и наверху запер, и целый
час поучал. “Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на
ночь попрощаться зайду”. Что ж ты думаешь? Поехал седой к Настасье Филипповне,
земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему, наконец, коробку,
шваркнула: “Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в
десять раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся,
говорит, и благодари Парфена Семеныча”. Ну, а я этой порой, по матушкину
благословению, у Сережки Протушина двадцать рублей достал, да во Псков по
машине и отправился, да приехал-то в лихорадке; меня там святцами зачитывать
старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в
бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, ан к утру горячка, а тем временем
за ночь еще собаки обгрызли. Насилу очнулся.
— Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья
Филипповна! — потирая руки, хихикал чиновник: — теперь, сударь, что
подвески! Теперь мы такие подвески вознаградим…
— А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну
какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку, даром что ты с Лихачевым
ездил, — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.
— А коли высечешь, значит и не отвергнешь! Секи! Высек,
и тем самым запечатлел… А вот и приехали!
Действительно, въезжали в воксал. Хотя Рогожин и говорил,
что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и
махали ему шапками.
— Ишь, и Залёжев тут! — пробормотал Рогожин,
смотря на них с торжествующею и даже как бы злобною улыбкой, и вдруг оборотился
к князю: — Князь, не известно мне, за что я тебя полюбил. Может, оттого, что в
эдакую минуту встретил, да вот ведь и его встретил (он указал на Лебедева), а
ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя
поснимаем, одену тебя в кунью шубу в первейшую; фрак тебе сошью первейший,
жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью и.. поедем к Настасье
Филипповне! Придешь, али нет?
— Внимайте, князь Лев Николаевич! — внушительно и
торжественно подхватил Лебедев. — Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!..
Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и
любезно сказал ему:
— С величайшим удовольствием приду и очень вас
благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если
успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились и
особенно, когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок
понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне
платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся.
Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет.
— Деньги будут, к вечеру будут, приходи!
— Будут, будут, — подхватил чиновник, — к
вечеру до зари еще будут!
— А до женского пола вы, князь, охотник большой?
Сказывайте раньше!
— Я н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь
по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
— Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, —
совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких как ты бог любит!
— И таких господь бог любит, — подхватил чиновник.
— А ты ступай за мной, строка, — сказал Рогожин
Лебедеву, и все вышли за вагона.
Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага
удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к
Литейной. Было сыро и мокро; князь расспросил прохожих, — до конца
предстоявшего ему пути выходило версты три, и он решился взять извозчика.
|


