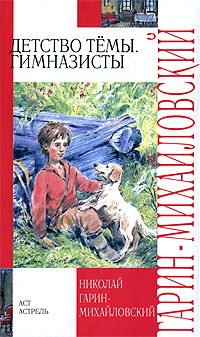
 Увеличить Увеличить |
VIII
ЭКЗАМЕНЫ
Прошла
пасха. Начались переходные экзамены из шестого в седьмой. На экзамене истории с
Карташевым случился скандал. Было задано на письменную тему – причины крестовых
походов. Успех был обеспечен, но Карташеву захотелось отличиться, и он,
разложив на коленях конспект, начал списывать с него. Директор, увидев это,
встал и подошел к Карташеву.
– Это
что-с?
– Я
хотел по Гизо.
Директор
пересматривал общую тетрадь Карташева, где были и полезные заметки, и фигуры
голых женщин, а Карташев, смущенный и сконфуженный, стоял перед ним.
– Стыдитесь! –
вспыхнул вдруг, как порох, директор.
Тетрадь
полетела в угол залы, а за ней и все мысли Карташева. Мало того, что директор
швырнул тетрадь, он приказал Карташеву поднять ее.
Карташев
чувствовал, что директор не имел права так поступать, и в душе шевелилась мысль
сказать ему это, но другая мысль, о том, что его за это исключат, заставила
Карташева с помертвелым лицом покорно пойти и поднять свою тетрадь. Это был
тяжелый удар самолюбию, и, если бы Карташеву сказали вперед, что он так поступит, –
он, наверно, обиделся бы. А теперь обижаться ему не на кого было, он исполнил,
по его мнению, лакейскую обязанность и испытывал своеобразное удовлетворение:
хоть и унизился, а остался целым и невредимым.
Он,
конечно, чувствовал себя оскорбленным и, отвечая, не смотрел на директора, но
это был такой ничтожный протест, который и самого Карташева не удовлетворил.
Он
получил по пяти и за устный и за письменный ответ. На письменный ему задали
новую тему, и так как он ее не знал, то опять смошенничал, приняв на этот раз
большие предосторожности. Последнее обстоятельство давало злое удовлетворение,
но в общем, возвращаясь с экзамена, он хотел, чтобы весь экзамен этот был
только сном, о котором можно было бы, проснувшись, забыть.
Конечно,
было благоразумно с его стороны, что он не сделал скандала: выгнали бы – и только,
а теперь все обошлось благополучно и получил даже две пятерки. Корнев получил
четыре, Рыльский – три, но Долба тоже получил две пятерки. С Долбой директор
был очень любезен и даже смеялся по поводу чего-то, а Долба держал себя
уверенно, развязно и, кончив, так равнодушно тряхнул волосами, как бы говорил:
«Иначе и быть не могло».
«Хорошо
ему, – думал Карташев, – а случись это с ним, и он бы, наверно,
поднял тетрадь, и Корнев, и Рыльский, и все».
Карташев
чувствовал себя скверно: точно уменьшился вдруг ростом. «Все равно, день, два,
а там и забудется, – думал он, – а пятерки останутся… Черт с ним, и с
директором, и со всей этой историей. Я, что ли, виноват? На его душе грех… Эх,
перелететь бы куда-нибудь к счастливым людям, где радость в том, что сознают
свое достоинство, где молодость ярка и сильна, где люди ищут удовлетворения не
в унижении других, а в уважении в этих других такого же человека, как они… Да,
да, где эта счастливая страна?» И Карташев напряженно и нехотя зевал и гнал от
себя бесполезные скучные мысли. Что-то продолжало сосать сердце, и вечером в
ароматном садике, на дворе у Корневых, где все уже знали, конечно, про скандал,
он сидел, стараясь быть естественным, и Маня Корнева спрашивала его:
– Что
с вами?
Он
слышал насмешку в ее голосе, чудилось ему пренебрежение и сожаление со стороны
Рыльского, Долбы и даже Корнева. Он уж не любил в эту минуту Маню, он ничего не
хотел, его тянуло домой, и, когда он шел по темным улицам и вспоминал, как
любезна была Корнева с Рыльским, он уныло шептал: «А черт с тобой!.. Ну и
кокетничай с своим Рыльским… С кем хочешь… Черт с вами со всеми!»
С этого
вечера после экзамена по истории, когда Корнева кокетничала с Рыльским, все переменилось
в их отношениях. Прежняя близость сразу исчезла, и Карташев чувствовал, что он
вдруг стал чужим для нее. Только мать Корнева по-прежнему ласково гладила его
по голове и даже нежнее обыкновенного говорила ему:
– Голубчик
ты мой.
Но дочь
ее, смотревшая прежде с удовольствием, когда мать ласкала Карташева, теперь равнодушно
говорила:
– Ну,
мама, уж пошла…
И она
смеялась своим естественным, веселым и беззаботным смехом, от которого,
казалось, все смеялось, и прибавляла уже серьезно, с ноткой пренебрежительного
раздражения:
– Да,
ей-богу же, смешно.
Карташев
ежился и робко смотрел на Корневу: куда девалась та прежняя Маня, с которой так
легко и весело ему было? Только с Рыльским она была прежняя. Теперь Карташев
еще сильней любил ее и с непередаваемой болью видел, как пылкая, увлекающаяся
Маня все больше заинтересовывалась Рыльским и смотрела на него так ласково, как
никогда не смотрела на Карташева. А Рыльский, равнодушный и веселый, так
смотрел на Маню, как никогда бы себе не позволил Карташев. Это было утешением
для Карташева, и иногда он спрашивал Семенова:
– Как
ты думаешь, Рыльский может сделать подлость?
– Какую? –
переспрашивал Семенов и делался сразу серьезным и строгим.
– Вообще
подлость?
Семенов
несколько мгновений думал и без снисхождения утверждал, наклоняя, по обыкновению,
голову:
– Может.
– Я
тоже думаю.
– Может, –
повторял убежденно Семенов.
|


