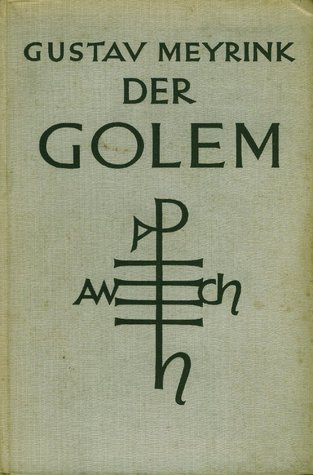
 Увеличить Увеличить |
VII. Явь
Цвак
взбежал по лестнице впереди нас, и я слышал, как Мириам, дочь архиварнуса
Гиллеля, тревожно расспрашивала его, а он старался ее успокоить.
Я
нисколько не старался вслушиваться в то, о чем говорили, и скорее догадался,
чем понял из слов: Цвак рассказывал, что мне стало худо, и они ищут первой
помощи, чтобы привести меня в сознание.
Я все еще
не мог шевельнуть ни одним членом, и невидимые силы все еще сжимали мне язык,
но мысли мои были тверды и ясны, а чувство страха оставило меня. Я знал точно,
где я был, что со мной случилось, и находил вполне естественным, что меня
внесли, как покойника, в комнаты Шемайи Гиллеля, опустили на пол и оставили
одного.
Мной
овладело спокойное естественное удовлетворение, которое испытывают при возвращении
домой после долгого странствования.
В
комнате было темно. Крестовидные очертания оконных рам расплывались в
светящемся тумане, проникавшем с улицы.
Все
казалось мне вполне естественным, и я не удивился ни тому, что Гиллель вошел с
еврейским субботним семисвечником, ни тому, что он спокойно сказал мне «добрый
вечер», как говорят человеку, которого поджидали.
Нечто в
этом человеке вдруг бросилось мне в глаза, пока он расхаживал по комнате, поправляя
разные предметы на комоде и зажигая второй семисвечник. А ведь мы встречались с
ним часто, три или четыре раза в неделю, на лестнице, и ничего особенного я в
нем не замечал за все то время, что я жил в этом доме.
Мне
бросились в глаза: пропорциональность всего его тела и отдельных членов, тонкий
очерк лица с благородным лбом.
Он
должен был быть, как я теперь рассмотрел при свете, не старше меня, самое
большее ему могло быть 45 лет.
– Ты
пришел, – заговорил он немного погодя, – на несколько минут раньше,
чем я предполагал, не то свечи были бы уже зажжены. – Он указал на
канделябры, подошел к носилкам и направил свои темные, глубокие глаза, как мне
показалось, на кого-то, стоявшего у меня в головах на коленях, но на кого
именно, я не мог рассмотреть. Затем он зашевелил губами и безэвучно произнес
какую-то фразу.
Тотчас
же невидимые пальцы отпустили мой язык, и оцененение прошло. Я приподнялся и
оглянулся назад, никого, кроме Шемайи Гиллеля и меня, в комнате не было.
Так что
и его «ты», и замечание, что он ожидал меня, относились ко мне!?
Еще
больше, чем все эти обстоятельства, поразило меня, что я не был в состоянии
почувствовать даже малейшее удивление.
Гиллель,
очевидно, угадал мои мысли, потому что он дружески улыбнулся, помогая мне
подняться с носилок, и, указывая на кресло, он сказал:
– И
ничего удивительного нет в этом. Ужасают только призраки – «кишуф». Жизнь язвит
и жжет, как власяница, а солнечные лучи духовного мира ласкают и согревают.
Я
молчал, потому что решительно не знал, что бы я мог сказать. Он, по-видимому, и
не ждал ответа, сел против меня и спокойно продолжал: – «И серебряное зерцало,
если бы оно обладало способностью чувствовать, ощущало бы боль только тогда,
когда его полируют. Гладкое и блестящее, оно отражает все образы мира, без боли
и возбуждения.
– Благо
человеку, – тихо прибавил он, – который может сказать про себя: я
отполирован. – На минуту он задумался, и я слышал, как он прошептал
по-еврейски: «Lischuosecho kiwisi Adoschem».[4]
Затем
его голос отчетливо заговорил:
– Ты
явился ко мне в глубоком сне, и я воззвал тебя к бодрствованию. В псалмах
Давида сказано:
«Тогда
я сказал себе самому: ныне начну я, лестница Божия совершила преображение сие». Когда люди подымаются с ложа
сна, они воображают, что они развеяли сон, и не знают, что становятся жертвой
своих чувств, что делаются добычей нового сна, более глубокого, чем тот, из которого
они только что вышли. Есть только одно истинное пробуждение, и это то, к
которому ты теперь приближаешься. Если ты скажешь это людям, то они подумают,
что ты болен, ибо им не понять. Бесполезно и жестоко говорить им об этом. Они
исчезают, как поток.
Они –
точно сон.
Точно
трава, которая сейчас завянет.
Которая
к вечеру будет срезана и засохнет.
– Кто
был незнакомец, который приходил ко мне и дал мне книгу «Ibbur»? Наяву или во
сне видел я его? – хотел я спросить, но Гиллель ответил мне раньше, чем я
успел произнести эти слова.
– Знай,
что человек, который посетил тебя и которого ты зовешь Големом, означает воскресение
из мертвых внутри духа. Все на земле не что иное, как вечный символ в одеянии
из праха.
Как
думаешь ты глазами? Ведь каждую форму, видимую тобою ты обдумал глазом. Все,
что приняло форму, было раньше призраком.
У меня
было чувство, точно все понятия, твердо стоявшие в моем уме на своих якорях,
вдруг сорвались и, как корабли без руля, устремились в безбрежное море.
Гиллель
спокойно продолжал:
– Кто
пробудился, тот уже не может умереть. Сон и смерть – одно и то же.
«…не
может умереть?» Смутная боль охватила меня.
– Две
тропинки идут рядом: путь жизни и путь смерти. Ты получил книгу «Ibbur» и читал
ее. Твоя душа зачала от духа жизни… – слышал я слова его.
«Гиллель,
Гиллель, дай мне идти путем, которым идут все люди – путем смерти», – дико
кричало все существо мое.
Лицо
Шемайи Гиллеля стало неподвижным и серьезным.
– Люди
не идут никаким путем, ни путем жизни, ни путем смерти. Вихрь носит их, как солому.
В Талмуде сказано: «прежде, чем Бог сотворил мир, он поставил перед своими
созданиями зеркало, чтобы они увидали в нем страдания бытия и следующие за ними
блаженства. Одни взяли на себя страдания, другие – отказались, и вычеркнул
их Бог из книги бытия». А вот ты идешь своим путем, свободно избранным тобой,
пусть даже неведомо для тебя: ты несешь в себе собственное призвание. Не
печалься: по мере того, как приходит знание, приходит и воспоминание. Знание и
воспоминание – одно и то же.
Дружеский,
почти любезный тон, звучавший в словах Гиллеля, вернул мне покой, и я почувствовал
себя в безопасности, как больной ребенок, который знает, что отец возле него.
Я
огляделся и заметил, что комната сразу наполнилась людьми, обступившими нас:
некоторые в белых саванах, какие носили старые равнины, другие в треугольных
шляпах, с серебряными пряжками на башмаках, – но Гиллель провел рукой по
моим глазам, и комната снова опустела.
Затем он
вывел меня на лестницу, дал мне зажженную свечу, чтоб я мог посветить себе на
пути к моей комнате.
Я лег в
постель и хотел заснуть, но сон не приходил, и я впал в какое-то странное
состояние: я не грезил, не спал, но и не бодрствовал.
Свет я
загасил, но, несмотря на это, в комнате все было так ясно, что я четко различал
все очертания предметов. При этом я чувствовал себя хорошо, не было того
мучительного беспокойства, которое охватывает обычно человека в таком
состоянии.
Никогда
за всю мою жизнь я не был способен так остро и четко мыслить, как теперь. Здоровый
ритм пробежал по моим нервам и привел в стройный порядок мои мысли – точно
войско, которое ждало моих приказаний.
Мне
стоило только скомандовать, и они маршировали передо мной и исполняли все, что
я хотел.
Мне
пришла на память камея из авантурина, которую я пробовал за последние недели
вырезать и все никак не мог, потому что рассыпанные в этом минерале кусочки
слюды никак не совпадали с рисовавшимися мне чертами лица. Теперь в одно
мгновение способ был найден, и я знал совершенно точно, как надо держать резец,
чтобы справиться со структурой материала.
Еще
недавно игралище фантастики и всяческих видений, о которых я часто не знал:
идеи это или чувство, тут вдруг я владыка и король в собственном царстве.
Вычисления,
которые я раньше делал с большим трудом на бумаге, теперь сами собой легко
слагались, как бы шутя, в результаты. Все это давала мне новая, пробудившаяся
во мне, способность видеть и удерживать в памяти именно то, что мне нужно было:
цифры, формы, предметы, краски. И если дело касалось вопросов, в которых эти
орудия являлись бессильными – философских проблем или чего-нибудь в этом
роде, – то, вместо внутреннего зрения, являлся слух, причем роль
говорящего принадлежала голосу Шемайи Гиллеля.
Мне
стали доступны чудеснейшие откровения.
То, что
я тысячи раз в жизни пропускал мимо ушей, небрежно, как пустые слова, вставало
передо мной в своей громадной значительности; то, что я заучивал «наизусть», я
теперь схватывал сразу, как свое собственное. Тайны словосочетаний, которым
прежде я был чужд, обнажались предо мной.
Высокие
идеалы человечества, которые до сих пор с благородной миной коммерции советника
и с грудью, покрытой орденами, говорили со мной сверху вниз, покорно сняли
шутовские маски и просили извинения: они сами ведь нищие, но все еще могут
поддержать какой-нибудь еще более наглый обман.
Не
приснилось ли мне все это? Может быть, я вовсе не говорил с Гиллелем.
Я
ухватился за стул возле моей постели.
Все
правильно, там была свеча, которую дал мне с собой Шемайя. Счастливый, как
ребенок, который в рождественскую ночь убедился в том, что чудесный гном
действительно существует, я снова уткнулся в подушки.
Точно
ищейка, я проник дальше в толщу окружавших меня духовных загадок.
Сперва я
попытался дойти до того пункта моей жизни, до которого хватило мне моих воспоминаний.
Только оттуда, думалось мне, может быть, мне удастся осмотреть ту эпоху моего
существования, которая, по странному сплетению судеб, остается для меня
погруженной во мрак.
Но,
несмотря на все мои усилия, я оставался в пределах темного двора нашего дома и
только различал через ворота лоток Аарона Вассертрума.
Точно
целый век жил я резчиком камей в этом доме, – всегда в одном возрасте,
никогда не быв ребенком!
Я уже
готов был отказаться от безнадежной попытки проникнуть дальше в тайники прошлого,
но тут я внезапно с изумительной ясностью ощутил, что в моих воспоминаниях
проходит широкая дорога событий, замыкаясь воротами, и что множество маленьких
узких тропинок, всегда сопровождающих главную дорогу, до сих пор совершенно
мною необследовано. «Откуда, – услышал я почти явственный крик, –
дались тебе знания, благодаря которым ты теперь влачишь свое существование? Кто
научил тебя вырезыванию камей, гравированию и всему прочему? Читать, писать,
говорить, есть, ходить, дышать, думать, чувствовать?»
Я тотчас
же ухватился за прозвучавший внутри меня совет.
Я
систематически обозревал мою жизнь. Я заставлял себя в опрокинутом, но
непрерывном ракурсе решать: что было исходным пунктом того, что случилось
только что, что произошло до того и т. д.
Вот и
опять я оказался у ворот…
Вот,
вот! Один маленький скачок в пустоту, и бездна, отделяющая меня от забытого,
будет преодолена… Но тут всплыла передо мной картина, которой я не заметил при
анализе прошлого: Шемайя Гиллель провел рукой по моим глазам, совсем
так, как недавно в своей комнате. И все исчезло. Даже желание продолжать думать
об этом. Но одно прочное приобретение осталось у меня, а именно, следующее
открытие: весь ряд событий в жизни есть тупик, как бы широко и доступно они,
по-видимому, не располагались. Узенькие, скрытые тропинки – они ведут к
потерянной родине: то, что нежно, едва заметно, запечатлелось в нашем теле, а
не страшные рубцы, причиняемые нам внешней жизнью, – здесь разгадка
последних тайн.
Так же,
как я могу перенестись ко дням моей юности, стоит только пройтись по алфавиту,
в обратном порядке, от Зет до А, и вот я уже вижу себя учащимся в школе, –
так, понял я, должен я странствовать и в иную далекую родину, лежащую по ту
сторону всяких дум.
Бесконечная
работа навалилась на мои плечи. И Геркулес одно время держал на своей голове
громаду неба, – припомнилось мне, и я вдруг понял скрытое значение этой
легенды. И как Геркулес освободился хитростью, попросив гиганта Атланта:
«Позволь мне только сделать веревочную подушечку на голову; чтоб ужасная ноша
не размозжила мне черепа», – так и я найду, думалось мне, какие-нибудь
затаенные выходы из этого ущелья.
Внезапно
глубокая досада овладела мною при мысли о необходимости слепо ввериться ходу
моих размышлений, я растянулся на спине, закрыл пальцами глаза и уши, чтоб не
отвлекаться никакими ощущениями, чтобы убить всякую мысль.
Но моя
воля разбилась о железный закон: одну мысль я мог прогнать только посредством
другой, умирала одна, ее трупом питалась следующая. Я убегал по шумящим потокам
моей крови, – но мысли преследовали меня по пятам. Я искал убежища в
закоулках моего сердца – одно мгновение, и они меня там настигали.
Опять
пришел ко мне на помощь ласковый голос Гиллеля: «Следуй своей дорогой и не уклоняйся!
Ключ от искусства забвения находится у наших собратьев, идущих путем
смерти, – ты же зачал от духа жизни».
Передо
мной появилась книга «Ibbur», и две буквы загорелись в ней: одна обозначала бронзовую
женщину с мощным, как землетрясение, биением пульса, другая в бесконечном
отдалении: Гермафродит на перламутровом троне, с короной из красного дерева
на голове.
Тут
Шемайя Гиллель провел в третий раз рукой по моим глазам и я заснул.
|


